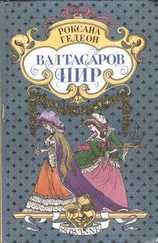— Через два года! Через год! — называла Климонтова сроки. — Магистраль будет готова к июню сорок девятого.
— И вы верите, что все это будет? И так скоро?
— Вера тут ни при чем, я просто знаю и вижу. Это тем, кому не суждено было дожить и своими глазами увидеть, какие силы таятся в народе и какие у нас возможности, — это им ничего другого не оставалось, как только верить и надеяться. Ну а я…
— Там, откуда я приехал, — перебил ее Уриашевич, — располагают гораздо большими возможностями и опытом. И там, в Англии или во Франции, вам сразу бы сказали: «Это нереально!»
— Вот видите! — воскликнула она. — Потому что сначала условия должны коренным образом измениться. — Она внезапно погрустнела и повторила: — Это не вопрос веры. Вера осталась уделом тех, кто, как мой отец, не дожил, или кто дожил, но кому не суждено было этого увидеть. Зато мы…
Он вспомнил фотографию на полке; фотографию молодого мужчины, сделанную сравнительно недавно, — значит, не отца. И промолчал. Впрочем, продолжать разговор было бесполезно. Все поворачивала она по-своему. Если он пытался оспорить что-нибудь, ссылалась в доказательство на стройки, которые только еще предполагалось начать, говоря о них, как о чем-то безусловном и чуть ли не завершенном. Разговор возвращался к исходному пункту. И Анджей решил, что спорить с ней не стоит.
Но когда они шли вдоль Вислы по набережной Костюшко и у Беднарской улицы им преградила дорогу толпа, все-таки не выдержал.
Это армия передавала в дар городу только что сооруженный понтонный мост. Кто-то произнес речь, потом был парад саперных катеров, — описывая круг перед трибуной, они проплывали мимо по реке. Контраст между действительностью — этим вот деревянным мостом — и магистралями, зданиями, металлическими конструкциями, существовавшими в воображении Климонтовой, был настолько разителен, что Анджей не вытерпел и указал на мост.
— Вот они, ваши миражи!
Они двинулись дальше, переговариваясь все реже, и наконец круг их утренней прогулки замкнулся на задворках бывшей фабрики Левартов. С соседнего пустыря на подводах вывозили битый кирпич, обломки. Вдоль тротуара, напрягшись так, что спина выгнулась, лошадь тащила в гору по выбитой мостовой телегу. Они остановились.
— Смотрю я на такую вот лошадь, — проговорила Климонтова, — и думаю: она лучше понимает, что происходит в городе и в стране, чем некоторые люди.
Уриашевич слегка покраснел. Внезапно ему захотелось рассказать ей о себе. И хотя она оскорбила его и постоянно рассуждала о вещах далеких ему и чуждых: о вере, убежденности — своей, своего отца и прочих, — он заговорил о себе, не очень понимая, почему в присутствии этой чужой девушки, которая ему совсем не нравилась, у него развязался язык.
Благодаря ей начал он свой рассказ. И прервал его из-за нее же, из-за невзначай оброненного ею замечания. Когда, прохаживаясь по двору разрушенной фабрики и бессвязно вспоминая о доме, семье, Левартах, он сказал, что немцы перед тем, как взорвать фабрику, вывезли оборудование, Климонтова удивилась:
— Немцы? А не дирекция?
— Что вы! Моего отца тогда уже не было в живых, дядя сидел в лагере, а третий директор, Кензель, погиб во время восстания. А почему вы думаете, что это сделали не немцы?
Когда она стала объяснять, он почувствовал, что бледнеет.
— Один рабочий говорил, который здесь раньше работал и присутствовал при демонтаже фабрики. Как-то я выносила мусорное ведро, он мимо проходил, остановился и спросил, кто в дворницкой живет, а потом рассказал, что приезжал сюда со своим директором сразу же после капитуляции, до того, как фабрику взорвали.
— С каким директором? — срывающимся голосом спросил Уриашевич.
Она посмотрела на него растерянно.
— А как выглядел этот директор, он случайно не сказал? — с мольбой протянул к ней руки Анджей. — Не описывал его наружности?
— Кажется, нет. Хотя постойте! Он сказал, что был сильный мороз и больше всех замерз директор — «тощий такой верзила».
Кензель! Ведь он же худой и высокий. Выходит, он был жив. А если жив, то именно он и взял картину из тайника. Но куда она девалась потом? Немцы забрали? Тогда — едва ли. Он слышал, что немцы после капитуляции Варшавы, вывозя все станки, все товары, прибегали при этом к помощи бывших владельцев, членов правления, директоров, позволяя им в награду за услуги брать личные вещи, даже мебель, меха, ковры, — их интересовали только сырье да машины. Итак, если немцы не отняли у Кензеля картину, куда он ее девал? Почему после освобождения не дал о себе знать ни дяде, ни теткам? Понимал же он, что рано или поздно Леварты свяжутся с ними. Почему не подавал никаких признаков жизни? Если же он умер, то произошло это значительно позже, чем все предполагали. И вообще, если неизвестно время его смерти, может, и сама она еще не факт? Живет себе где-нибудь и бережет картину честный, душой и телом преданный Левартам старик.
Читать дальше
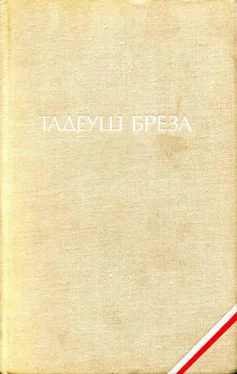


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)