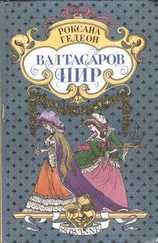Гарч ослабил натяжение троса. Встал с колен и смотрит на пузырьки, определяя, где Конколь. Теперь отчетливо видно, как пенистая полоска движется прямо к понтону. Вскоре и Конколь показывается из воды.
— Эх, Юзек, Юзек! — И Гарч с этими словами прыгает из моторки на понтон. — Что это ты выкидываешь, старик?
Конколь уже без шлема; ворот и балласт лежат рядом. Он стягивает голубую шапочку с головы. Уриашевич забирает ее у него из рук. Она мокрая и липкая от пота.
— Багор застрял, я дернул посильней. И тут как навалилось что-то на меня! Так и уложило на дно! Лежу и шевельнуться не могу, — закончил свой рассказ Конколь. — Действовал я вроде осторожно, — говорит он в раздумье. — Это трещина все, будь она неладна!
— Случается, и не заметишь.
— Всякое бывает!
— Придет время, когда без малейшего риска работать будем! Вот увидите, — говорит Конколь в ответ на замечания сигнальщика и старшего помощника. — Дай сигарету, — обращается он к Гарчу.
Тот сует ему сигарету прямо в рот: руки у Конколя мокрые. Потом дает прикурить и наклоняется при этом. Конколь замечает у него на спине багрово-синие полосы.
— Ах, Гарч, Гарч! — Конколю все ясно, и он морщится недовольно. — Хоть бы тряпку, бедняга, подложил.
Некоторое время прислушивается он к разговору, изредка вставляя словечко. Потом остается сидеть неподвижно, опустив голову и закрыв глаза. Но через четверть часа приходит в себя.
— Куда шапку мою девали? — ищет он ее глазами. И, натянув на голову, начинает одеваться. — Поговорили, и ладно! Завтра кран прибудет! — кратко дает он понять, что инцидент исчерпан.
* * *
Выйдя из такси, Иоанна Дюрсен-Уриашевич осмотрелась. Сердце у нее лихорадочно билось, все тело болезненно ныло. Горло сжимал спазм, мешая дышать, руки дрожали. Какое-то неведомое бремя тяготило плечи и спину, хотелось согнуться.
Но, сделав над собой усилие, Иоанна выпрямилась. И, откинув назад золотистые волосы, с гордо поднятой головой двинулась вперед хорошо отработанной, легкой походкой.
Климонтова ей сообщила, что сестер не будет сегодня дома. Тем не менее такси она остановила на Банковской площади, откуда до бывшей фабрики Левартов еще порядочный кусок. Глаза у нее беспокойно бегали. Увидев издали флигель, где жила мать, она остановилась и окинула взглядом лежащий перед ней пустырь.
Вправо, влево, на сотни шагов на месте улиц протянулась расчищенная от развалин полоса. Теперь здесь кипела работа: разравнивали грунт. Повсюду, насколько хватало глаз, люди рыли, копали; в землю вгрызались огромные экскаваторы, перенося ее с места на место или высыпая в телеги и вагонетки, которые увозили ее куда-то дальше по петляющей узкоколейке. Люди, животные и машины, казалось, трудятся плечом к плечу, прокладывая новую уличную магистраль в несколько километров длиной.
А прямо перед Иоанной была фабрика. Вернее, уцелевшая от нее дворницкая. Щебень и кирпич, оставшиеся от разрушенных складов, от жилого дома и фабричного корпуса уже вывезли. Из груды кирпичей — бывшей лаборатории — повыбирали целые и тоже увезли. Разобрали на кирпич и остатки подвалов, этих свалок мусора и хлама, где разлагалась дохлая кошка и куда в поисках «Пира» не решался спуститься Уриашевич, упросив Хазу подстраховать его веревкой.
Иоанна приблизилась к флигелю и взглянула на окошко мансарды.
— Можно? — спросила она.
— Пожалуйста, — послышалось в ответ.
Гордо выпрямясь, переступила Иоанна через порог. Но перед матерью было незачем притворяться. И она поникла, согнулась. Не для того, чтобы поцеловать у матери руку, а так, непроизвольно. По прошествии двадцати пяти лет друг на друга смотрели не моложавая, интересная дама и хорошенькая, совсем юная девушка с золотистыми косами, а старушка с пожелтевшей кожей, с глазами в красных прожилках и крупная зрелая женщина с поблекшим лицом. Такими сделало их время. Прошло несколько мгновений, прежде чем они обнялись.
Разговор не клеился, как всегда после долгой разлуки. Молчание затягивалось. Обе не знали, с чего начать. Верней, с чего ни начни, все бередит старое, раздражает, ранит. С похвалой отозвались о Климонтовой, которая согласилась устроить им встречу после письма Анджея, и замолчали опять. Да и как об этом разговаривать, не упоминая о Тосе и Ванде. Об их отношении к этому и упорном сопротивлении.
— Ты танцуешь еще? — спросила шепотом мать.
— Уже нет.
— И не будешь больше?
— Почему ты спрашиваешь, мама?
Читать дальше
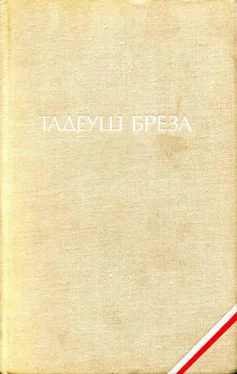


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)