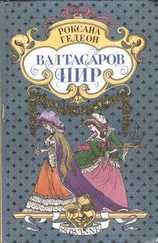Уриашевича разморило от здешнего воздуха. И усталость давала себя знать, и выпитый чай. Он поблагодарил девочку и пошел к себе. Сняв костюм и белье, вытянулся он в чистой постели, но от возбуждения, как обычно после кофе, не мог заснуть. Едва задремав, опять просыпался. А когда под вечер с моря подул холодный, свежий ветер, Анджей понял, что все равно в постели ему не улежать. И спустя час уже был в городе.
Но в порт не пошел. Что-то его удерживало. На Рыночной площади он заглянул в несколько магазинов. Но, сделав необходимые покупки, сообразил, что очутился как раз на улице, ведущей к порту. Тогда он замедлил шаг и, не доходя до моря, свернул вбок. Широкая, красивая аллея минут через пятнадцать привела его к подножию холма, поросшего цветущим кустарником. По склонам зигзагами взбегали тропинки. На вершине вырисовывались две живописные старинные башни.
С места, где он остановился, открывался прекрасный вид. Направо — развалины замка на горе, налево — море. Прислонясь спиной к дереву, Анджей стоял и смотрел. Вокруг — ни души. Слышалось только, как волны разбиваются о берег да птицы распевают в кустах под этот глухой аккомпанемент.
Поблизости было кладбище, о котором Биркут упомянул в своей речи. Через несколько шагов Анджей прямо в него и уперся.
Могил оказалось мало, немногим больше, чем перечислил Биркут. На небольшой пологой площадке торчали незамысловатые кресты с деревянными табличками. Под ними — свежие венки. Но, видно, могил и в обычные дни не забывали, не только в такой, как сегодня. Об этом свидетельствовали увядшие и совсем засохшие букеты. Приносили их, значит, в разное время, и пролежали они здесь не один год.
Поднявшись выше, Анджей заметил скамейку. До войны скамеек, наверно, было значительно больше, и предназначались они для гуляющей публики, но сейчас ни в порядок их приводить, ни сидеть на них было недосуг. Тем же носовым платком, которым Анджей вытер лицо, смахнул он со скамейки сухие листья, песок, паутину и сел.
И тут неожиданно увидел порт. Он лежал слева, совсем близко, и теперь, когда заслонявший его бугор остался позади, виден был как на ладони.
Далеко в синее море, будто руки, протянулись два мола. За оконечностями их на волнах покачивались буи. С внутренней стороны западного мола у большой воронки не то от авиабомбы, не то от мины стоял водолазный понтон. На нем явственно можно было различить водолазную помпу и нескольких человек возле нее.
Противоположный берег весь так и кишел людьми. Ремонтировали железнодорожные пути; в другом месте бетонировали площадки для угля, а дальше, в глубине порта, монтировали транспортеры.
Связывавший берега паром дрогнул и поплыл. Потом от управления порта отделился небольшой быстроходный катер и, рассекая воду, устремился к понтону.
Что за зрелище! Птицы, умолкнувшие при появлении Уриашевича, опять запели в кустах, так как он не шевелился. Далекие людские голоса заглушались шумом моря и писком чаек, неутомимо круживших над берегом. Но до слуха доносились грохот испытываемых транспортеров, лязг рельсов, тарахтенье моторов. Анджею даже казалось, будто он различает тихий звон стального троса, по которому ходит паром, и позваниванье колоколов на буях от набегавшей волны, так напряженно он прислушивался. И, затаив дыхание, забыв обо всем на свете, засмотревшись, Анджей не заметил, когда и встал.
Встал и поплелся наверх. Шел, еле передвигая ноги, но не усталость была тому причиной. Нахлынувшие мысли, чувства, впечатления обременяли его, сковывая движения. Он все размышлял о том, что ему предстоит. Ночью в поезде поборол он страх, который нагнали на него Хаза и Рокицинский. Немного пришел в себя и успокоился. Но едва ступил на землю Оликсны, как на него обрушились, перевернув все внутри, слова Биркута; слова, в которых было его спасение…
А вдобавок еще лесные запахи, птичье пение и густая зелень. Они пробудили воспоминание о другом лесе, других зарослях — вчерашних. Прихлынув, оно тут же отступило, вытесненное другими, далекими воспоминаниями довоенных лет. Воспоминаниями о летних каникулах на море. Но их он тоже отогнал. И вернулся мыслями к делу, за которое так неудачно взялся в Варшаве. Надо было искать выход из создавшегося положения.
Наконец очутился он перед развалинами замка на горе. Разрушила его не война, а время и безразличие прежних хозяев этой земли. Судя по состоянию стен, заброшен он был уже лет сто, а то и все двести. Сохранились только две угловые стрельчатые башни с легкими ренессансными коронками. Окна на гладкой поверхности уцелевших стен располагались симметрично. Над нишей ворот, ведущих во двор, виднелся герб — это было уже чистейшее барокко. Вокруг огромного щита — пышнейший орнамент. А сам щит разделен был по вертикали на две клетки геральдическими зверями: грифом в одной и орлом в другой. Герб хорошо выделялся на стене еще и потому, что кто-то его отчистил. Кто? Отгадка не заставила себя ждать, едва Уриашевич успел подумать об этом.
Читать дальше
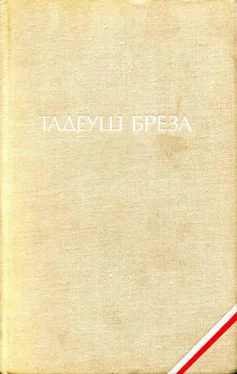


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)