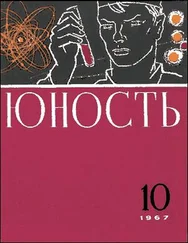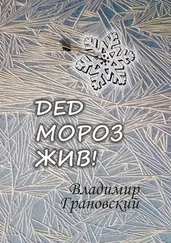«Будьте как птицы», — учил Назареянин. Но я не смогу. Покалеченный цивилизацией, я непременно нагружу свою песню смыслом, и она рухнет с божественной высоты на землю. «Естердей, — станет выговаривать моя флейта, — олл май траблз симд соу фар эвей». Публика обалдеет. «Нау ит луке аз вер ахер ту стей — заковыляет моя флейта, —Харе Кришна, Харе Рама ». Ну, в том смысле что — Кришна-Кришна, Харе-Харе. Это будет уже Джан-ма-Аштами: красны девицы обернутся вайшнавицами — сари, тулоси, тилака, дал — и примутся за махамантру. И тут я со своей дудкой. Я же не могу, чтобы праздник — и без меня.
Карнавалы, карнавалы... Нина мне книжку даст — «Народная смеховая культура»: раблезианство, поэтика низа и т.д., — я буду стоять посреди бесовского шабаша в эпизоде «Корабль уродов» на съёмках фильма про художника Рудика, вокруг меня будут мелькать пьяные рыла, ляжки, фуражки, дудки, гармошки, будут стелиться по реке цветные дымы, жёлтые, красные, зелёные ракеты будут разлетаться во все стороны, и разгулявшийся спонсор будет палить из пистолетов — а я буду стоять на звукозаписи, как на стрёме, вспоминать Нину и оправдывать, оправдывать уродов «Народной смеховой культурой», раб-лезианством и поэтикой низа. Я умный, буду твердить я себе, я под чё хошь базу подведу, без базы не останусь. А Карло, меж тем, изрубит кинжалом все подушки, разденет всех девок, обляпает их компотом и перьями, потом подожжёт гирлянду флажков и встанет на голову (Брейгелю), дрыгая ножками. «Браво, маэстро! — завопит Паша-режиссёр. —Стоп —снято! Спасибо всем! Горилки мне, в крынке!». И я брошу звукозапись, вытащу из-за пояса мою флейту и засвищу «Яблочко» что есть мочи во все российское раблезианство, а Макс, капитан разврата, пустится в последний свой пляс...
Через год и четыре месяца он утонет, Макс.
В титрах фильма напишут, что соавтор сценария — я. Мне нечего будет возразить.
Из далекой Дании приедет датчанин Густав с миссией «Next Stop Soviet» и нечаянно сядет на мою флейту и раздавит её.
Я замолчу.
Но, ушибленный цивилизацией, конечно, не утерплю.
Я склею несчастную и подую ей — как бы — на раны, а затем — как бы невзначай — в её белый обкусанный мундштук. Чуть-чуть так, еле слышно, где-нибудь в лесу. Голос, конечно, у неё будет уже не тот. Прокуренный будет голос, зажатый, и тон неверный, но лес меня поймет. Я сыграю ему пастораль, и из малинника выйдет Маринка с ягодами в маленьком кулачке. Но это будет мираж.
Я сяду в поезд, я поеду в Кунгур. Поеду ни за чем, просто так, даже в ледяную пещеру не спущусь. Буду как птицы.
В вагоне встречу Галку, она скажет: «Сыграй здесь, при всех», — и я заиграю в вагоне при всех пассажирах, как играл мой герой Леший девять лет назад, когда я был инженером и ничего не знал про музыку, но написал Ле-шего-саксофониста, и все это сбывается, и все сбудется
— я скажу Галке, что люблю её, как сорок тысяч братьев, и у неё в руках окажется такая же флейта, как у моего брата, и мы заиграем вместе для всех людей и для себя на двух флейтах, и coda наша будет изумительно точной, как будто мы репетировали всю жизнь.
Вот она лежит в куче игрушек — серенькая пластмассовая дудочка с белым мундштуком. Поднять? Или не надо?..
Толстая девочка. Вокруг неё вьются мальчишки, как мухи вокруг лампочки: непонятно зачем.
— Это же шедевр! — закричал я Маку. — Это шедевр!
— На том стоим, — сипло ответил Мак и шарахнул из арбалета в сосновую плаху, прибитую к дальней стене его чердака.
Обморочно запищала свеча на столе, смутилась под нашими взглядами и замолчала.
— Пусть она тут будет. — Я бережно прислонил «Толстую девочку» к банке с огурцами и взял новую карточку.
Китайская кухня. На первое — поклоны тростника, на второе — стук семечек в тыкве — горлянке, на третье — запах нагретого солнцем старого можжевельника.
К Маку легко скатиться: его дом в логу. Трудно пройти мимо Макова дома и не скатиться к нему. Но вот катишься, катишься и замечаешь, что дом растёт и растёт. Подлетаешь к подъезду, ловко избегнув помойки, закидываешь голову кверху и думаешь: а зачем это я к нему качусь? Но не ползти же в гору обратно — ползёшь вперёд: по ступенькам, долго, трудно, нудно, пыхтя на весь подъезд, сыпля чертей. Подползаешь к его дверце, дергаешь за коклюшку — где-то далеко отзывается колокольчик. Шаги: «Кто там?» — «Я». Отворяется дверь, а за ней... еще одна лестница. Чёрт, отвесное железо. Снова ползёшь, а куда деваться.
Читать дальше