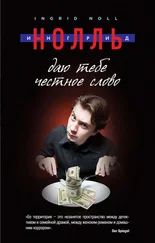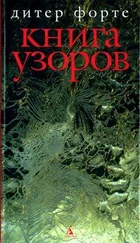Киппенберг замолкает. Он знает, что своим рассказом достигнет результата, обратного тому, какого хотел достичь. Ева внимательно его слушает. Останавливаться на полпути нельзя. И он продолжает рассказ, пытаясь спасти то, что еще можно спасти.
Вздумай кто-нибудь спросить его, как он сегодня относится к событиям того времени, он с искренним убеждением ответил бы, что все страсти давно улеглись, что между ним и его отцом, собственно, и не произошло ничего необычного. Он добился самостоятельности, может, чуть поздней, чем следовало, у нынешней молодежи подобные вещи происходят гораздо раньше. Процесс этот неизбежный, и порой он протекает экзотермически, иными словами, с выделением большого количества тепла, разогревающего умы чуть не до белого каления. Но когда реакция завершилась, как результат возникло новое соединение — человеческие отношения в новом качестве. И люди опять находят путь друг к другу уже на более высоком уровне, и тогда каждый жалеет о каждом необдуманном слове и жалеет, что не был терпелив, выдержан и мудр.
— Поверьте мне, нельзя хлопать дверью, нельзя вырывать себя из почвы, на которой вырос, — говорит он серьезно и проникновенно.
Нидершёнхаузен, площадь Курта Фишера, опустевшие к полуночи улицы. Ева просит:
— Остановитесь где-нибудь здесь.
Машина останавливается.
— Вы очень мне помогли, — говорит она. — Я благодарю вас. Я не стану бить кулаком по столу, а, когда завтра приступлю к разговору с отцом, постараюсь не сказать ни одного непродуманного слова, чтобы потом не раскаиваться. Но уж кем я стану, это буду решать я, и только я. — И она вылезает из машины.
— Только без паники, — говорит Киппенберг. Он не может так ее отпустить. — Я ведь советовал вам проявить разум и выдержку.
— Надо же когда-нибудь кончать, — отвечает она. — И лучше раньше, чем позже.
— Нельзя пробивать стенку головой, — говорит Киппенберг. — Вам надо сперва окончить школу, этого требует здравый смысл.
От слов о здравом смысле Ева взрывается:
— Но я больше не могу, совсем не могу, ни часа. Я всю жизнь подчинялась требованиям здравого смысла, я всю жизнь была покладистой и послушной. — И чуть успокаиваясь: — Только в один прекрасный день выясняется, что ты ничего больше не умеешь, кроме как помалкивать да следовать требованиям здравого смысла.
Слова эти задевают Киппенберга. Впрочем, еще не настолько, чтобы чувствовать себя задетым. И он говорит:
— Не знаю, правы ли вы. Лично я рационалист до мозга костей, а все, что вы рассказывали, насквозь пропитано эмоциями.
— Речь идет о моем праве самостоятельно принимать решения, — не сдается она. — И нельзя определять всю свою жизнь с помощью одного только разума. Вот почему речь идет также и о моем праве на самостоятельные чувства, неужели вы этого не понимаете?
— Очень жаль, — говорит Киппенберг, — но я не позволяю чувствам управлять мною.
Тут она с сомнением заглядывает ему в лицо и спрашивает:
— А вы всегда такой были?
Он кивает.
— И никогда не подчинились ни одному чувству?
Он отрицательно качает головой.
— И никогда не пожелали себе испытать чувство, которое было бы сильнее рассудка и разума?
Киппенберг очень ласково спрашивает:
— Чего вы, собственно, добиваетесь?
Короткое молчание. Потом Ева:
— Я хочу идти своим путем. — И четко, словно уговаривая себя самое: — Ведь бывает же, что человек не успеет спрыгнуть где надо и станет совсем другим, чем ему хотелось стать. Некоторое время он еще это сознает, а под конец забывает. И уже вообще не помнит, каким когда-то хотел стать.
Опять молчание. Слова Евы должны оседать в Киппенберге медленно, дойти до самого дна, и лишь тогда он сможет задать конкретный вопрос:
— А какой это свой путь?
В ответ — кредо Евы, без пафоса, четко:
— Я хочу уехать подальше от Берлина, вырваться наконец из этой среды. Я просто погибаю от своей спецшколы, надо уходить немедленно, пока я это сознаю, потом сознание поблекнет и будет слишком поздно. Я работала в лагере помощницей вожатой, там были девочки со всех концов республики, и пусть кое-кто называет это провинцией, все равно: школа в Зенфтенберге, где тон задают дети горняков, — это совсем другой мир. А здесь лишь двое или трое моих одноклассников происходят из рабочих семей, они быстро приспособились к местному климату и к бражке, которая задает здесь тон. Все сплошь типы вроде меня, дети интеллигенции — артистов, художников, партийных деятелей. Я знаю, что вести такие разговоры не положено, но я буду стоять на своем, раз я вижу мир таким, какой он есть, а не таким, каким он должен быть согласно серой теории: здесь аттестат об окончании средней спецшколы не представляет собой ничего особенного, а учеба в университете как задание рабочего класса — просто легенда. Здесь среднее образование есть почти у всех. И почти все мы еще с детских лет подкуплены, каждый на свой лад: один — деньгами, ему платят за каждую пятерку, другой — страхом, он готов на все из страха перед предками, поскольку для них человек без аттестата — слабак и выродок. Завод, на котором мы работали, мало что смог изменить в этой атмосфере заносчивости, высокомерия и оторванности от жизни. В моем классе есть такие пижоны, которые даже во время производственной практики изъяснялись друг с другом только по-английски и получали удовольствие оттого, что рабочим это не нравилось. Я хочу на волю! У меня нет больше сил выносить снобизм тех, кто, нацепив западные шмотки, сидит в модерновых кафе, попивает сок со льдом и рассуждает о преимуществах социализма на Кубе перед социализмом ГДР, а попутно причитает, что из-за воинской повинности удается стать кем-то на два года позже. Я отлично знаю, в каком государстве я живу, и хочу прежде, чем я об этом забуду, подыскать себе что-нибудь за пределами Берлина. Мне рассказывали, как строили плотину на Созе, в Више, или как еще раньше корчевали леса для металлургического комбината «Ост». Вот чем занималось ваше поколение. Значит, вы должны меня понять.
Читать дальше