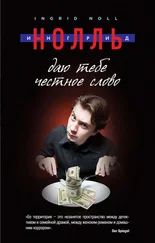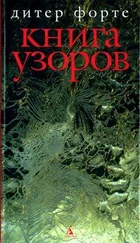Киппенберг глядит на Еву. В нем начинает потихоньку звенеть какая-то струна, но ему уж давно за девятнадцать. Он уже понюхал, чем пахнет жизнь, и он знает: далеко не везде она пахнет одинаково хорошо. У него накопился большой опыт — он разбирается в людях и в обстоятельствах, которые могут привести тебя к краху, но с которыми можно и поладить. Он теперь меньше имеет дело с идеалами, а больше с действительностью. И он кажется себе глубоким стариком, когда говорит:
— Я очень хорошо все понимаю, с сорок пятого по сорок седьмой я был учеником на полуразрушенном заводе, это было трудное, это было великое время. Но можно ли считать наше сегодняшнее время менее великим лишь потому, что жизнь стала легче и спокойней? Место одержимого энтузиаста с киркой занял экономист вроде нашего Вильде, он специалист по исследованию операций, он подходит к вопросам развития не иначе, как вооружившись протоколом компиляции. — Все еще не сводя глаз с Евы, Киппенберг заканчивает: — Боюсь, что вы несколько романтизируете жизнь.
— По мне, можете называть это и романтикой. И пусть романтика выглядит так: строительная площадка, где все перевернуто вверх дном, так что завтра уже нельзя узнать, как она выглядела вчера; захолустье, где человеком считается каждый, кто работает не за страх, а за совесть, пусть даже у него нет аттестата и ему не гарантировано место на студенческой скамье и сам он не заместитель директора, не официальный уполномоченный и не тому подобное. Я хочу, чтобы мне помогали, а с меня требовали.
— Но зачем, — интересуется Киппенберг, — зачем вам это понадобилось?
Она в ответ:
— Там, где все перевернуто до основания, могут заодно перевернуть и тебя самого.
На это Киппенберг ничего не отвечает. И пусть Ева догадается, что в нем зашевелилось нечто похожее на зависть и восхищение. Прощаясь, он говорит:
— Я как уже советовал, так и теперь вам советую быть терпимее и благоразумней. А на всякий случай — ни пуха, ни пера. — И уже после добавляет: — Вы знаете, как меня отыскать. Так что держите меня, пожалуйста, в курсе.
Я мог не покидать дома, заставить Еву, например, дожидаться в кафе. Прождав полчаса, она поняла бы, в чем дело, и больше не позвонила бы. Но после всего, что я услышал вчера и хорошенько продумал сегодня, мне казалось, будто я рискую вторично, и теперь уже навсегда, упустить упущенное. Жаль, между мной и Босковом не сохранилась близость первых лет. Босков бы все понял. Он разбирается в людях независимо от того, к какому поколению те принадлежат, он с ними связан, он живет среди них: орда внучат населяет большой дом в Каролиненхофе, где обитает Босков с семьями обеих своих дочерей и великим множеством кошек. И если уж тебе никак не обойтись без чужого совета, Босков единственный, к чьему совету можно прислушаться. К счастью, пока я еще мог обойтись. Руководствуясь присущим мне чувством высокой ответственности, я на всякий пожарный случай позвонил в институт, где народ до сих пор работал на машине. Для выяснения некоторых вопросов Леману все же пришлось кликнуть Боскова. Что еще слышно? А вот что: Леман уже в пятницу затребовал на сегодняшнюю ночь машинных инженеров, чтобы завтра утром, когда к нам пожалуют тюрингцы, вдруг не забарахлила быстродействующая печать или еще что-нибудь. Итак, я мог не волноваться. К своему удивлению, я вдруг сказал:
— На всякий случай загляну вечерком.
И поехал в кафе-молочную.
Вовсе не из чувства ответственности я опять потащился воскресным вечером в институт. Они там и без меня отлично справлялись: кто, как не я, с первых дней заботился о том, чтобы среди нас не было незаменимых. Нет, я просто хотел быть поближе к Боскову, хотел поделиться с ним кой-какими соображениями, что прежде делал так часто, а теперь — так редко.
В операторской все еще стояла раскладушка Лемана. За одним из столов сидел Босков с Леверенцем — следовательно, пригласили и механика по машине. Они сидели над метровой длины листом и подытоживали колонки цифр. Босков кивнул мне, даже не поднимая глаз. В машинном зале гудели вентиляторы. За разделительной стеклянной стеной я увидел склоненного над магнитными лентами Мерка. Леман, скрючившись, сидел за пультом. Харра стоял посреди зала в неизменно болтающемся костюме, одну руку он заложил за спину, другой ухватился за полу пиджака и сам был весь какой-то скрюченный. И разумеется, в зубах у него была зажата неизменная черная «гавана». Я с места в карьер набросился на него:
Читать дальше