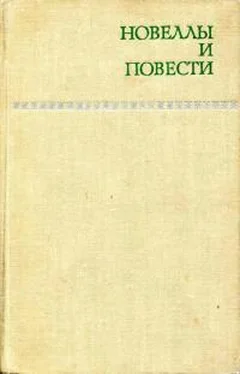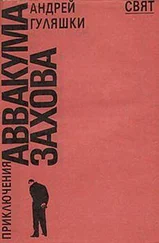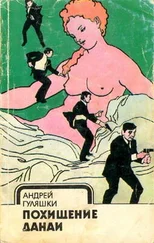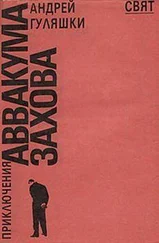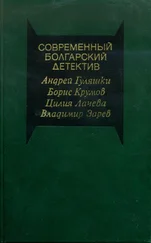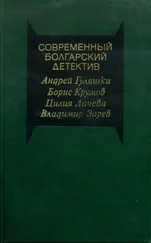В сущности говоря, я и сам не знал, любил ли Анушу, но вопрос, который мне задал Михо, прояснил многое. Когда Ануша бывала рядом, я ощущал какое-то внутреннее сопротивление, и мне всегда бывало трудно посмотреть на нее или заговорить. Когда я думал о ней, иногда с томлением, иногда с глухой враждебностью, я понимал, что она ничем не выделяет меня среди прочих. Но, возможно, я ошибался? Со всеми она держалась совершенно одинаково, хотя чаще, чем с другими, разговаривала со мной или с Михо… Как бы то ни было, но когда время условленной встречи у Ануши приближалось, меня тянуло прийти минут на десять раньше, пока не явились остальные. Больших усилий мне стоило отказываться от этого. Нарочно отыскивал я себе какое-нибудь дело, которое меня задерживало и отвлекало от этих мыслей. Только они, проклятые, не оставляли меня. Бывало и так, что я выходил пораньше, а потом бесцельно бродил по улицам. Каждую минуту смотрел на свои часы. Снова и снова подносил их к уху, чтобы убедиться, что они идут: секундная стрелка не работала, что же до часовой и минутной, то они были словно прикованы к одним и тем же цифрам… Наконец я приходил к Ануше, истерзанный и злой как черт. Приходил даже с опозданием. Ануша, окруженная парнями, о чем-то рассказывала, отпускала шутки, смеялась громче всех — настоящая Белоснежка в окружении четырех темноволосых гномов, хотя все они были отнюдь не гномы, а я сидел молча да злился на себя за то, что не смел осуществить такое в общем-то невинное желание — поболтать с Анушей наедине… Да, но что бы сказали товарищи, если бы заподозрили, что я нарочно пришел пораньше? И как бы к этому отнеслась сама Ануша?
Я так далеко зашел в своих чувствах и доводах «за» и «против», что не давал ни тем, ни другим одержать верх. Иногда я чувствовал себя подобно Рахметову, когда тот лежал на своем ложе, утыканном гвоздями: лежать дальше — сил нет как больно, а встанешь — как будешь выглядеть в собственных глазах?
И все-таки я попытался «встать».
Однажды в конце весны, когда солнце сияло с каким-то неистовством, так что даже развалины, оставшиеся после налета английской авиации, выглядели довольно живописно, я решил отправиться к Ануше до условленного часа. В сущности, говорить, что я решил, нельзя, это было бы далеко не точно и весьма преувеличенно, потому что я ничего предварительно не обдумывал и не ставил перед собой никакой цели. Просто какое-то светлое чувство, неясная надежда на то, что со мной случится что-то очень хорошее, побудили меня выйти из дому на полчаса раньше. Во что только не поверишь в такой день, особенно когда так хочется верить!
В подобных случаях говорят, что у человека выросли крылья. Разумеется, никаких крыльев не было, однако ноги у меня длинные, и через несколько минут я уже стоял у знакомого дома. Я даже забыл осмотреться вокруг, прежде чем толкнуть входную дверь, — обязательное правило для каждого из нас, если мы не хотели притащить за собой «хвост». Спохватился я уже на лестнице — и махнул рукой. Да полно, могло ли случиться что-нибудь в такой великолепный день?
Как всегда, дверь мне открыла Ануша. На ней была белая кофточка с короткими рукавами и темная юбка. Волосы она украсила маленьким белым цветком. Лицо ее было покрыто легким румянцем, синие глаза, словно вечернее небо, излучали какое-то таинственное сияние. Никогда я не видел ее такой.
Некоторое время она смотрела на меня — и будто не видела. Казалось, она пытается что-то вспомнить. У меня голова пошла кругом. Останься она еще хотя бы на миг вот такой, с этим блуждающим взглядом, который словно искал у меня ответного, я, не выдержав, протянул бы руку и погладил ее по лицу. И сказал бы ей слова, которых никто никогда не говорил, — так по крайней мере мне казалось тогда.
Но она засмеялась и каким-то почти бессознательным движением вынула из волос цветок.
— Проходи, Петр, — сказала она и взглянула на цветок. — Видал, какой садик у нас во дворе? Хозяев теперь нет, можно нарвать сколько хочешь цветов… Возьми, дарю его тебе.
Она сунула цветок мне в руку и поспешила вперед, весело смеясь. Я двинулся вслед за ней, не разбирая дороги.
Теперь, приближаясь к шестому десятку, я твердо знаю, что любовь человека имеет свои законы, пусть романтики даже утверждают обратное. Единственная в жизни любовь кончается в двадцать лет. Все остальное — то, что пробуждается в душе время от времени, чтобы оживить в ней угасшую мечту, то, что тревожит нас в сновидениях, — все это отзвуки неизжитой веры в иллюзии, в непостижимое совершенство духа, отголоски некогда подавленного чувства.
Читать дальше