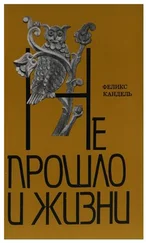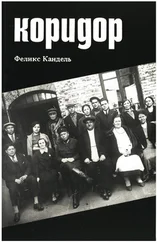– У нас общественное мероприятие, – заявил ответственный товарищ. – Не религиозное. Понимаете?
– Понимаю, – сказал еврей. – Я так понимаю, что вам делать нечего.
И ткнул концом костыля в ответственную ногу.
Прибежал распорядитель, запрыгал в возбуждении, вытягиваясь на носочки:
– Старуха... религиозная... Воля матери...
Начальство отошло в сторону, озираясь любопытно на призыв громкий, напев незнакомый. Глядели во все глаза – мурашами по спине – на старика немощного, приткнувшегося на костыле, который страстно звал на помощь, жаловался и объяснял, молил, укорял и снова молил.
Умолкло враз воронье, дрогнули дальние кусты, примялась трава, и пошел издалека невидный караван, путем долгим, многотрудным, понёс старцев седобородых, красавиц смуглых, юношей стройных – мертвецов народа своего; поводырь ступал ногами натруженными, глядел вдаль глазами усталыми, с веками набрякшими. Прошел караван мимо под гортанный напев, унес в дальние края не Ефима Яковлевича – Хаима Янкеля, чтобы похоронить в земле святой, в земле заповедной, Богом данной, Богом отнятой и возвращенной. Утихли потревоженные кусты, распрямилась трава, загалдело воронье; умолк старик с костылем – ушел караван...
– Аминь! – заключила бабуля и перекрестила гроб.
Потом была суета прощания, толкотня с венками, старому еврею сунули в карман деньги, заодно бабуле в протянутую руку, музыканты побежали к автобусу, деловитые и озабоченные, повели жену, на руках обвисшую, а она всё оборачивалась назад к оставленному, брошенному, покинутому…
Старый еврей пошуршал бумажкой, вздохнул, не глядя:
– Надо еще.
Женщина в белой панамке дала рубль.
Женщина в белой панамке, старый еврей на костыле и похороны на кладбище – из романа «На ночь глядя». Который писал в Москве, в годы отказа, когда отключили телефон, лишили заработка и вырезали фамилию из титров, обыскивали и допрашивали, били ногами сына на улице и четыре долгих года не выпускали в Израиль.
Оттого, может, название такое, безвыходность и неопределенность завтрашнего дня – всё там, в этой книге, на ее страницах.
Пошла было прочь, да засмущалась уходить с цветами, воротилась, положила гвоздики в общие охапки, сказала тихо:
– Слышь? Я к тебе заходить буду...
И по тропке, по аллейке, в привычную ей сторону, а рядом бабуля, глаз сорочий, вдевает руку в пустой рукав жакетки:
– Всё-то у них, у евреев, не по-людски. И поплачут не так, и помолятся. Живут по-нашему, а уходят по-своему.
Сложила рубль вдвое, еще вдвое, упрятала в карман.
– В церкву схожу, свечку за него поставлю. Бог один, Он пусть и разбирается.
Поскакала вбок, меж плит и оград, выкликнула издали:
– Старик у меня под крестом, я при ём…
Шла мимо баба пышная, рослая, силой налитая, в платье цветастом, с граблями на плече. Грудью раздвигала воздух, точно линейный корабль волны, как возвращалась с дальних покосов, намахавшись вдоволь, нанюхавшись травяных дурманов, пропотев всласть на широком раздолье.
– Шурочка, здравствуйте! Сколько не виделись!
– Здорово, мать, – откликнулась. – Куда пропала?
– Я живая, – заторопилась. – Приболела чуть...
И полезла в сумку за платой установленной, чтобы прибирала Шурочка могилу, цветы по весне сажала. Лишь снег истекал ручьями, торопилась к ней, незаменимой, деньги совала в карман: «Живая. Я живая...»
– А я, – сказала Шурочка, – в Кисловодске была. По путевке профсоюзной. Здоровье свое лечила.
– И правильно. Вам у нас болеть нельзя. Вон, сколько на вас!
– Воду пила, – похвасталась. – Ванны принимала. Кино смотрела. На танцы ходила.
– Вы, Шурочка, выглядите прекрасно. Цвет лица удивительный.
– Уж я отмылась... А загорелая была: куда там! Даже сватался один, из желудочного санатория. Вы, говорит, Шурочка, созданы для меня. Я вас всюду искал, найти не мог. Вы, Шурочка, кем работаете? Я и брякни: при кладбище. Сразу отстал...
– Вы, Шурочка, приберите. Очень я вами довольна.
– И не сомневайся, мать, пригляжу за твоим. Все мною довольны. Не ты первая.
Упрятала деньги в карман, вскинула грабли на плечо, пошагала бодро, весело, отмахивая широко, ступая твердо, оглядывая с высоты обширное свое хозяйство.
А она пошла в свою сторону, по тропочке, в тесноту, скученность, к портрету под стеклом, к строгой, с достоинством, надписи. Издали увидела глаза улыбчивые, ворот распахнутый, волосы копной трепаной, милую ямочку на подбородке: сердце прихватило в горсть.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)