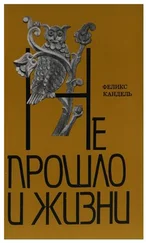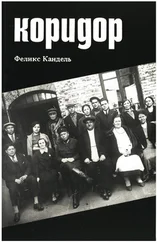Носатые какаду – они живучие.
Он стоил немало, этот какаду, потому что говорил на языке вымершей народности. Так, по крайней мере, считалось, потому что никто его не понимал.
Большеголовый. С огромным клювом, серым от возраста оперением и пронзительным голосом, который проникал сквозь стены. Кормили его зерном, орехом, ягодой, а он кричал на незнакомом наречии – не мог успокоиться, на лбу проступала от возмущения багровая полоса.
Пробовали расшифровать тот язык, но знатоки отпадали по одному, а попугай всё топтался и топтался на жердочке, тараторил и тараторил свое.
Полагали, что хранил он тайны сгинувшей народности, пути к благоденствию рода человеческого, стоит только уразуметь. Высказывали догадки, что вымершая народность предостерегала потомков от нависшей опасности, но никто не мог уяснить его речь и осмыслить.
Объявился, наконец, полиглот, хилый, заморенный полученными знаниями, разгадал послание.
– О чем же оно?
– Одна только фраза. «Выделите помещение. Сделайте в нем музей».
– Музей кому? – заёршились законополагающие.
– Тем, кто вымер, – разъяснил полиглот.
– Да ты что! Нет у нас вымерших. У нас никто не вымирал без согласования. Все у нас здоровые, вечно живые.
– Вот же он, глагол их языка. Вот оно, их существительное.
– Гражданин‚ вам русским языком сказано! Народа нет и языка нет.
– А как же какаду? С их посланием?
– Он его сам выдумал, этот язык.
И пощурились на попугая, стали нехорошо оглядывать.
Полиглот туда, полиглот сюда: допустили его в самый закрытый архив, к самой заветной папке, а там пусто. Нет ничего про вымерший народ, – может, его и вовсе не было?
Так кому же тогда этот музей?
Автобус замедлил ход…
…голос из хрипатого динамика возвестил привычно:
– Конечная остановка – кладбище.
Пассажиры зашевелились, гурьбой полезли на выход, а женщина вышла после всех – белая панамка на седой голове, глядела, как торопятся они к воротам, неостывшие от сутолоки, несут к мертвым обидную для тех поспешность.
Загодя готовилась к визиту, обвыкала, настраивалась, чтобы подойти покойно и отрешенно, сказать просто, обыденно, не вызывая зависти-раздражения: «Здравствуй, Саша, вот и я».
Возле ворот, прямо на траве, расселись торговки с цветами в ведрах, в буйных охапках, а с края, скромно и пристойно, улеглись на дерюжке морковка, петрушка, мелкая свекла. Шедшие туда, к мертвым, брали цветы, шедшие назад, к живым – овощи.
Купила букетик гвоздик, подивилась гордой их стойкости, – хризантемы стареют неряшливо, гвоздики с достоинством, – вошла на кладбище. Справа, у приплюснутого домика, толпились провожатые, жена, на руках обвисшая, гроб в кумаче на железной каталке. Суетился распорядитель, деловитые музыканты облизывали мундштуки труб, переминалось в нетерпении начальство, старый еврей с костылем, в ермолке, в широченных брюках трубами пыхтел шумно и обидчиво.
– Шапки надеть. Гроб закрыть. Музыку отослать. Не то молиться не буду.
И стукнул о землю костылем.
Распорядитель шарахнулся к начальству, те отмахнулись с небрежением, и охнули разом тарелки, басом вздохнул геликон, под нестройную скорбь понесли по аллее венки, подушечки с наградами, следом покатили каталку.
Скакнула из-за дерева бабуля – глаз сорочий, спросила, запыхавшись:
– Имя у него какое?..
– Ефим, – ответили, – Яковлевич.
– Господи, упокой душу раба твово, Ефима, – запела, поспешая, выглядывая зыристо, пустой рукав болтался сиротливо. – Прими душу его на покаяние...
И закрестилась торопливо, вызывая косые взгляды, испуг беспокойного распорядителя, общее не похоронное любопытство.
– Уберите ее, – сказал еврей, окончательно отставая. – С Богом я буду разговаривать.
Подошли к раскрытой могиле, растеклись по проходам, посреди оград и памятников, вплотную почти утыканных. Вышел вперед ответственный товарищ, сказал без бумажки речь, затертую от частого употребления, всем понятную, всеми одобренную. О заслугах ушедшего, редких душевных качествах, о памяти, которую не избыть, – покойник стыл в неземной отрешенности, ощущая, быть может, тягостную ненужность прощания, редкая тень от резного облачка проскальзывала по его лицу.
– Спи спокойно, Ефим Яковлевич! Мы тебя не забудем.
– Аминь! – заключила бабуля и испортила официальную часть.
Приковылял старый еврей, шумно отдуваясь, потребовал на ходу:
– Гроб закрыть. Шапки надеть. Музыку убрать.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)