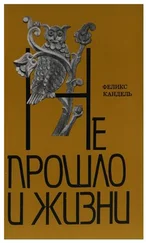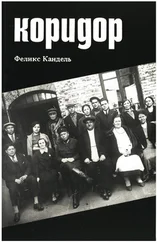По воскресеньям они собирались в кино‚ и я начинал хныкать‚ не желая расставаться. Папа сдавался первым: гори огнем ваше кино‚ никуда он не пойдет‚ и мы усаживались в обнимку на диване. На мне матроска – от брата перешла‚ папа молодой – на ногах бурки‚ и елка под потолок‚ которую разглядываю теперь на снимке‚ через увеличительное стекло: шпиль на макушке‚ дед Мороз‚ обложенный ватой‚ гуси-зайчики хрупкого вздутого стекла‚ – детям моим достались эти зайчики‚ пережившие ту войну.
Вот и пирог на столе‚ с изюмом и корицей‚ который испекла мама: на керосинке‚ в алюминиевой форме «Чудо»‚ с открытыми поначалу отверстиями‚ а затем с закрытыми‚ чтобы всласть подрумянился. Корицей пропахло детство. Запахом корицы.
Фотография на стене попахивала тоже.
В войну‚ при ночных налетах спускались в подвал дома‚ сидели за толстенной, как у сейфа, дверью‚ вздрагивая от близких и дальних разрывов, – мальчики за стеклом вздрагивали вместе со всеми.
На углу улицы Воровского прямым попаданием развалило дом‚ у Никитских ворот взрывной волной обрушило каменного Тимирязева‚ на Арбатской площади очереди выстраивались у метро – ночь провести в туннеле‚ пока диктор не объявлял: «Опасность воздушного нападения миновала. Отбой!» Нюша Огурцова, наша соседка, в подвале не хоронилась, а становилась на колени перед иконой, бомбы отводила от тех самых мальчиков – голова к голове.
Потом мы уехали в эвакуацию, в уральский городок Далматово‚ где зима – это зима‚ и двадцать градусов – не мороз. В пургу‚ в снежные заносы‚ сугробы не давали открыть калитку‚ и мы с братом брели в школу‚ во мраке‚ след в след‚ до первого фонаря у горсовета. По вечерам я ныл перед сном: «Исть хочу... Исть…»‚ а брат сердился: «Нет у нас, понял? Нет! И взять негде...»
Его призвали в армию из десятого класса: беззащитная шея в широком вороте гимнастерки‚ решительное лицо обиженного подростка, – красноармеец Кандель‚ семейной выпечки, из тепла прямо в окоп. Мама работала до поздней ночи, а я, десятилетний, колол дрова, растапливал печку, в холода стоял на улице в долгом ожидании, нёс домой малый брусок хлеба, и трудно было удержаться, чтобы не съесть его. Еды было мало, от истощения не мог ходить, и когда возвращались в Москву, меня на руках внесли в вагон.
А мальчики оставались на Никитском бульваре, оберегая комнату, насторожились, должно быть, после нашего возвращения: появился один брат, отчего нет второго? Второй был на фронте.
Война закончилась.
Мы выжили.
И брат – вот счастье! – выжил тоже.
После победы родственники получили письмо из Бруклина: «Как вы пережили тот ужас? Кто цел? Кого уже нет?..», но им побоялись ответить, очередной ужас был в разгаре, и его предстояло перетерпеть.
Папа в гимнастерке: первые по лицу морщины‚ редкая на шевелюре седина‚ а будет ее в избытке. Мама в шерстяной кофточке‚ такая прелестная‚ с тенью озабоченности во взоре‚ в вечном опасении за сыновей. Я между ними, тоже в гимнастерке‚ которая велика‚ с белым воротничком наружу.
А мальчики с фотографии ничему не удивлялись, на то они и мальчики.
Одному пять лет, другому двенадцать.
Смотрели. Запоминали. Старший с добротой восприятия, которую пронес через тяжкую болезнь, младший с неверием в глазах, что проглядывает и теперь.
– У тебя катастрофическое сознание, – укоряют автора. – Прежде не наблюдалось.
– Вовсе нет, – отбиваюсь. – С таким вышел на свет.
Впереди были безродные космополиты, «убийцы в белых халатах»‚ горы новейшего оружия‚ заготовленного на нас с братом, и Сталина положили в мавзолей‚ вынули из мавзолея, вернулись из лагерей недобитые «враги народа» – не на ликующем танке возмездия‚ не опрокинув мучителей в яростной атаке: тихо‚ буднично‚ по-канцелярски‚ и примостились на лавочках вперемежку с палачами, досиживая дни свои.
А мальчики с фотографии всё смотрели и смотрели. В матросском костюмчике – я. В пиджачке – брат мой, короткие брюки, должно быть, застегнуты под коленками на пуговки.
Видели отца моего на носилках.
Маму мою на диванчике, врача над ней в безуспешных попытках.
Брата – в горестном с ним расставании.
Угасания его жены.
Прилетел на ее похороны и перевез мальчиков из Москвы, повесил возле кровати.
Просыпался под их взглядами на Никитском бульваре. Под их взглядами засыпаю – в Иерусалиме. А они смотрят, голова к голове, как сказать желают:
– Не относись с небрежением к минувшему. Досталось то, что досталось, у других и того нет.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)