Но сначала она позвонит сестре, той сегодня стукнуло семьдесят четыре. Наоми уже лет пять вдовеет, живет в цокольном этаже дома в хорошем районе Бруклина, километрах в трех от тех мест, где они выросли. Сын и дочь, чередуясь, навещают ее по субботам-воскресеньям, так что она может пичкать внуков ругелах [54] Рогалики с вареньем, орехами и т. д. ( идиш ).
, ахать и охать над их рисунками, потом лепить их к холодильнику магнитиками в виде фруктов. Когда Белла говорит, что Наоми прожила жизнь хорошо, та взрывается:
— Не морочь мне голову, шейне [55] Красавица ( идиш ).
. Сама знаешь, тебе такая жизнь была бы не по нутру.
— Я тебя разбудила? — спрашивает Белла, когда Наоми берет трубку.
— Ты что? Какой у меня сон. Собираюсь в честь дня рождения принять на ночь снотворное. Лучше подарка не придумаешь. Ну как прошло чествование?
— Прекрасно. Правда-правда, очень славно. О чем ты думаешь, Наоми, когда не можешь заснуть?
— О разных глупостях. Что не пригласила в гости мистера Зинке, когда умерла его жена, собиралась-собиралась, а его тем временем определили в дом престарелых. Что надо было подтянуть по математике внучку миссис Хейман: она отставала.
— О своих прегрешениях.
— Да, о прегрешениях. А ты?
— О том же, наверное. Внуки тебя поздравили?
— А то нет.
— Как они там? Расскажи.
— Джозеф подыскал работу на лето, будет продавать в разнос ножи. Кухонные. Не уверена, что это так уж хорошо. Ты же знаешь, Бруклин нынче… Шейне, тебе плохо?
— Да нет, все хорошо. Если не считать суставов.
— С каких это пор тебя стали интересовать бруклинские новости? Сдаешь, что ли? От моих внуков только и слышишь: «Он так сдал, совсем не фурычит». Слышала такое?
И Беллу, отринувшую идишкайт лет семьдесят назад, на время спасает от одиночества ломаный говор ее детства, с его насморочными «х», стоящими, будто кол в горле.
Она желает Наоми доброй ночи, начинает взбираться наверх, на полпути на минуту останавливается, смотрит на картину на площадке — автопортрет, она написала его за два года до того, как познакомилась с Клеем, на нем лицо у нее высокомерное, презрительное, рука поднята, кисть нацелена на зрителя точно пистолет. Но интересует ее, конечно же, не лицо, не поза, а выразительность формы, если б не это свойство, учителя никогда не говорили бы, что она пишет как мужчина. Может, лучше было бы держаться своей тогдашней манеры, а не вступать в бой с модернизмом, изо всех сил пытаясь создать нечто новое. Радости ей, во всяком случае, эти бои не принесли. А потом она встретила Клея, и все переменилось. Изначально присущая ей страсть на долгие годы ушла из ее работ. А когда он умер, она продолжала писать его картины — те, что ему уже не суждено было написать, и не могла остановиться. Она не пыталась, как утверждали критики, подражать ему. А пыталась представить, что он стал бы писать дальше. И не могла, и никто не мог.
На Айленде его картин нет, ей недостает их. В нью-йоркской квартире с ее стальными дверями на запорах, с круглосуточным привратником, с тревожной сигнализацией (поставить ее потребовала страховая компания) она может смотреть на картины везде, хоть в спальне, хоть в гостиной или, как ее именует Эрнест, салоне. Раз в год она наносит ритуальный визит в хранилище, выбирает картины, которые повесит у себя на этот раз. Когда же речь заходит о продаже, она дорожится, долго ни на что не решается. Уже было скажет «да» и коварно бьет отбой. Думают, это у нее такая тактика, чтобы поднять цену еще выше, но нет, никакая это не уловка: для нее они духи, обереги. Никому, сколько он миллионов ни выложи, они не обойдутся так дорого, как ей.
Отвернувшись от картины, она, тяжело опираясь на перила, преодолевает ступеньку за ступенькой. Она уже, можно сказать, на площадке, но тут головокружение, еще более сильное, чем прежде, возвращается, рука слабеет. Ее шатает, одна ее нога на площадке, другая на верхней ступеньке, и тут ноги у нее подкашиваются, руки хватают пустоту, и она падает навзничь. Но прежде, чем рухнуть на пол в холле, ударяется щекой о перила, и боль солнечным жаром охватывает голову. С минуту ей кажется, что она ничего не повредила, что черные зигзаги, пляшущие перед глазами, вот-вот исчезнут. Ей даже кажется, что она сможет добраться до гостиной, где телефон, и позвать на помощь. Однако, когда она порывается подняться, перед глазами все вертится, плывет, ее мутит, и на стене она видит не свой портрет, а грязноватую картину — сценку на Монмартре, слабую имитацию слабого Утрилло: белые крапушки церкви, красные женских платьев, густая мазня, не живопись, а каша какая-то.
Читать дальше
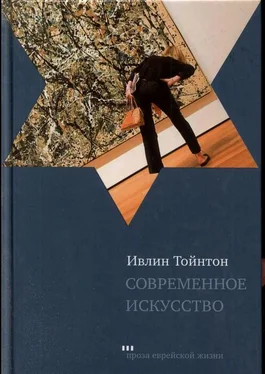



![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)







