Та картина висела в номере ее парижской гостиницы, она тогда уехала в Париж решить — уйти ли от него навсегда. И пока в четвертую ее ночь там она лежала, уставясь на эту картину, не в силах уснуть, он пьяный вусмерть, гикая, хохоча во все горло, со скоростью сто пятьдесят километров в час огибал поворот. А когда она, сняв картину, засовывала ее в гардероб, он уже вылетел со сломанной шеей на песок, а любовница, выбираясь из-под опрокинувшейся машины, вопила, звала его.
Сосуды в голове, кажется ей, сейчас лопнут, в ушах шум, ее окутывает темнота. Она пытается поднять голову — посмотреть на себя молодую, но на стене ни ее картины, ни его картины, ни той, парижской, нет. Впрочем, это уже не важно: теперь, когда на нее давит холодный пол, а кости торчат наружу, вера в целительную силу искусства ее покинула.
11
Из первого общего впечатления кутерьмы, гама сперва выделяются отдельные слова, затем целые фразы, однако мысли все равно путаются.
— Так или не так, но ты всегда терпеть не могла мою мать, — сетует мужской голос, женский обрывает его: — Это она меня терпеть не могла.
По полу со скрипом волокут деревянный стул. Пронзительный, плаксивый голос вопит, срываясь, зовет на помощь. Кто-то хватает Беллину руку, принимается считать.
Меж тем глаза у нее ничего не видят, голова идет кругом, она то возносится, то обрушивается вниз, на кромке сознания вздымается волна, она вот-вот поглотит ее. Но слова прорываются и сквозь нее.
— Это я, Енох, мама, ты меня слышишь? Я с тобой.
— Ей подыскивают отдельную палату.
— Ей сейчас без разницы — что отдельная палата, что телефонная будка. Да ты посмотри на нее.
— Так-то оно так, но она важная шишка и отдельную палату ей подыщут — куда они денутся. В детстве я жил через дорогу от нее.
— И что?
— И то. Не знаю, что. Когда она уходила, я подкрадывался к ее дому, заглядывал в окна. Помню, у нее на стене висела большущая картина — точно малец пальцем намазюкал.
В Беллину руку что-то вкалывают, ее обдает жар, окутывает молочной пеленой сон. Нет, нет, она не должна заснуть. Нельзя расслабляться: в одном из голосов сквозит неприязнь. Она разрывает пелену сна, в горле комом стоит рвота.
— Ма, вернешься домой, я тут же посажу те цветы. Прямо у крыльца, как ты хотела.
— Господи, ты только глянь на монитор. Где Шостак?
— Хотел соснуть часок-другой.
— А ну, ноги в руки и за ним.
Кровь шумит в ушах, застилает глаза, ядовито-алая в черную крапинку: видно, она все же потеряет сознание. Но минуту спустя в палату, тяжело ступая, входит Шостак, недовольно прочищает горло. По тому, как он дышит, как ходит, она понимает: решения здесь принимает он, ее судьба в его руках.
— Кто ее врач?
— Он из города. Бернстайн или как там его. Ганон перед уходом говорил с ним.
— Только никто не знает, что Бернстайн ему сказал? Обычная история. Чтобы что-то согласовать, так нет. Господи ты Боже мой. — Он фыркает. — О’кей. Раствор Рингера с лактатом Д 5. Калий-натрий в норме. Тотчас.
По полу с лязгом катят какую-то громадину, ее кровать сотрясается.
Женщина напротив снова кричит:
— Помогите… Помогите кто-нибудь.
— Ма, успокойся, я здесь.
— Поторопи их.
Волна спадает, шум в голове стихает, она ощущает лишь страшный холод, неприятный металлический вкус во рту.
— Что вы со мной делаете? — спрашивает она, слова крутятся в голове, но до губ не доходят.
— О’кей, — роняет Шостак, он сопит. — О’кей, дела идут на лад. — И грузно шагая, удаляется, она даже не успевает сказать, что дела вовсе не идут на лад: она снова падает, тонет, красный огонь бьется, гудит у нее в голове.
— Ты что здесь делаешь?
— Не мог же я уехать в город, не узнав, что случилось.
— Тебе здесь нечего делать.
— Мне хотелось увидеть ее. А то она умрет, а я ни разу не увижу ее, не мог я такого допустить.
— Ты хочешь увидеть ее из-за него, вот что.
— Ш-ш-ш. Она может нас услышать.
— Но это так.
— Какая разница?
— Еще какая. Сама по себе она тебя не интересует. И напрасно. Она — чудо что такое, ему очень повезло с ней. Уйди, прошу.
— Я останусь, посижу с тобой. Подержи ее за руку. Ну же. Вдруг она что-то чувствует, откуда нам знать. И слышать нас она может, такое бывает. Мой отец слышал все, даже в коме.
— Откуда ты знаешь?
— Я это чувствовал, вот откуда. А как-то раз, когда я сказал врачу, чтобы тот оставил отца в покое, он сжал мою руку.
— Значит, он не был в коме.
— Нет, был. Не злись, не надо.
— Просто я все думаю: ну почему я не была там. Приехать бы мне днем раньше, ничего бы не случилось.
Читать дальше
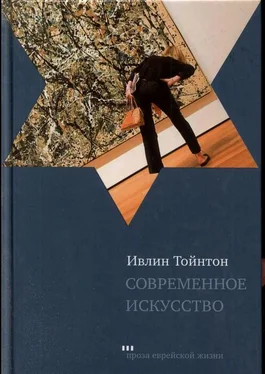



![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)







