Белла — она старуха, ей можно — фыркает:
— Фруктам нечего делать в супе.
Слева от нее розовощекий юнец — помнится, она встречала его где-то в городе — пискливым голоском раздраженно растолковывает кому-то: он же сказал Крису, что не может подставить ему плечо, тот обратился не по адресу.
Заметив, что Белла на него смотрит, он умолкает и поворачивается к ней.
— А у нас, знаете ли, много общего, — сообщает он. — То есть, помимо того, что само собой разумеется. — Не в силах представить себе, что же — само собой разумеется — их объединяет, она без особого интереса ждет, что он еще скажет. — Мы лечимся у одного врача, великого Лангсбаума.
— Слишком вы молоды для артрита, — осаживает его Белла.
— Конечно же, я для артрита слишком молод, но артриту до этого нет дела. Как бы то ни было, Лангсбаум рассказал мне, что среди его пациентов есть и малые дети, и кое-кто из них к десяти уже стал калекой. Вот ужас-то, правда?
Она соглашается. Задается вопросом: делали ли ему вливания золота и помогли ли они ему в отличие от нее. Боль, даже пока они соболезнуют друг другу, пронзает бедра, отдает в плечо, ложку ко рту и то подносить не хочется — так это мучительно.
— Мне говорили, что вишни творят чудеса, но чтобы они помогли, надо съесть не меньше тонны, — говорит он.
Она кривится.
— Благодарствую, я отказалась от знахарских панацей, сыта ими по горло.
А вот от чего она не отказалась бы — это от болезни поэффектнее, такой, чтобы прикончила одним махом, а не мало-помалу. Завтра та девчушка с розоволепестковой кожей в не вяжущейся с ней косухе приступит к своим обязанностям, но Белла даже думать об этом себе не позволяет. А когда все же думает, ей видятся такие девчушки, одна за другой, целая армия девчушек, бесконечная вереница помощниц, вторгающихся в ее жизнь. Утром просыпаешься, они — тут как тут, у твоей постели, вечером — изволь слушать про их планы на будущее. Даже мысль, что ее станут высаживать на толчок, пугает ее меньше, чем эта перспектива.
— Поговорим о чем-нибудь более веселом, — предлагает она, когда официант вносит баранину на ребрышках, разговор, однако, переключается на катастрофы глобального масштаба: уничтожение дождевых лесов, парниковый эффект, распространение атомного оружия. Когда рассуждаешь о всеобщей гибели, сокрушаешься о судьбе планеты, а не о своей, это помогает отвлечься. Но мысль о девчушке никуда не уходит. После девчушки придет черед сиделок, медбратьев, толкающих инвалидное кресло: вот какое будущее надвигается, и боль в суставах — его предвестие.
После мусса из белого шоколада, увенчанного веточкой мяты, гости отодвигают стулья, стекаются к ней. Эрнеста, отмечает она, тоже окружают поклонники, нагибаются пониже, чтобы его расслышать. Ей рассказывают, как осрамились Эндрю Дэнфорт и его последняя жена: они обвинили гостившего у них приятеля в том, что он украл один из ранних рисунков Дэнфорта, на самом же деле горничная сняла рисунок, чтобы стереть пыль, и не вернула на место. Сплетня ее порадовала, как и всякий чернящий Эндрю рассказ, но сегодня ей едва удается выжать из себя улыбку. Старые распри выдохлись, как выдохлась и она.
Головокружение возвращается, хотелось бы списать его на выпитое за ужином вино, но она знает: не в вине дело. Сосуды мозга остекленели, кислород не проходит. Вдруг ее молитвы и будут услышаны. Она кивает Монике, чья галерея оплатила ужин, говорит, что ей пора.
— Ну как можно, — сокрушается Моника. — Нельзя же уйти посреди своего чествования. Что-нибудь не так?
— Все замечательно, — Белла треплет ее по руке. — Просто я старая, быстро устаю, и мне надо бы прилечь.
— Тебе никогда не быть старой, — упорствует Моника.
Однако вызывается отвезти Беллу и отказа не принимает, хоть Белла и уговаривает ее не покидать гостей. Артритный юнец помогает Белле встать, неспешно ведет ее к двери. Все сгрудились вокруг нее, чмокают в щеки, долго, до боли, жмут руку. Она — чудо, твердят они, под конец это звучит уже как надгробная речь, последнее «прости».
— Проводить тебя наверх? — справляется Моника, когда они подъезжают к дому Беллы, но Белла уговаривает ее вернуться в ресторан.
— Точно?
— Точно-точно. Ничего со мной не случится, я всегда поднимаюсь сама.
А о том, что послезавтра она уже не смогла бы так сказать, умалчивает. И Моника после суматошного обмена поцелуями и благодарностями отбывает. Теперь остается только втащиться наверх, выпростаться — в последний раз — из платья своими силами.
Читать дальше
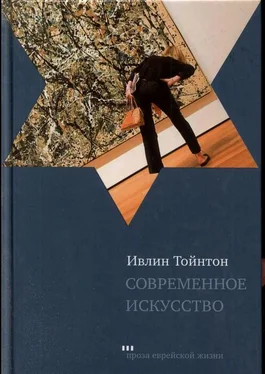



![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)







