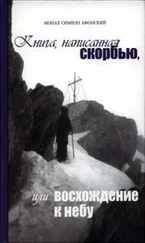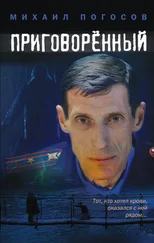Ну и конечно, я очень хотел есть. В последние дни меня не очень-то баловали сытными обедами. Как-то было не до еды.
Я поставил кипяток. Надел новые теплые вещи. Пару свитеров, трико, теплые носки, теплые тапки. Тело начало накапливать тепло. Еще немного — и станет почти уютно. Заварил чаю. Неуклюже нарезал ложкой колбасу и сыр и маленькими кусочками, очень осторожно прожевывал их, каждый раз вздрагивая, когда еда попадала в раны, а чай обжигал их. Сидя на лавочке, с затекшими глазами, с накинутым на плечи пуховиком и в шапочке, грея руки о горячую кружку, тихонько прожевывал пищу. Я всматривался в темноту энтоптического (по Набокову) роенья в своих глазах, получая огромное удовольствие от вкусовых ощущений, которое давала мне пища. Мой желудок потихоньку наполнялся, я ощущал прибывающее тепло. Потом я заварил еще чаю и съел несколько зефирин с шоколадными конфетами…
Сладкое! — сколько сладкого слышится для зэка в этом слове. Его всегда не хватало осужденным, особенно тем, кто проводит долгое время в ШИЗО, БУРе, СУСе или просто сидит на ПЛС. Сладкое отбирают, сладким делятся, его даже воруют друг у друга, сладким наслаждаются, а когда его долго нет, о нем грезят. Когда на протяжении долгих дней, месяцев, лет кормят пресной или кислой баландой, сладкое для осужденного становится дополнительным источником положительных эмоций, заменителем счастья, маленьким праздником в условиях дефицита всего. Я знаю толк в сладком, порой я нуждался в нем, как блокадник в хлебе. Я долгое время очень остро испытывал его недостаток.
…Слава приехал в субботу.
В этот день я проснулся от холода, т. к. пуховик упал на пол. Голова раскалывалась, болью откликалось все тело и ребра. Лицо корчилось от муки при попытке пошевелиться. Голова, казалось, увеличилась вдвое. Я не мог открыть глаза из-за слипшихся от крови ресниц, и первое, что я начал делать, — отмачивать и протирать лицо. Каждое движение давалось с большим трудом. Я еле шевелился, все ужасно болело! Мозг, казалось, перемещался внутри головы, как подтаявший студень, ударяясь о стенки, причиняя дикую боль. Поднимаясь резко из лежачего положения, я терял равновесие и ориентацию в пространстве — плыла картинка. Надо было хвататься за что-то, чтобы не упасть. Я знал, что на следующий день будет хуже, но не предполагал, что настолько! Ощущение, словно на мне разворачивался бульдозер. Чтобы двигаться и совершать обычные бытовые действия, мне приходилось прикладывать гигантские усилия и терпеть боль… И было холодно, чертовски холодно! Шел пар изо рта. Мерзли даже руки и уши. Открывать кран и умываться ледяной водой было пыткой.
Но я ожил. Задвигался, заскрипел, как заржавевший механизм, под вздохи и тихие постанывания (так легче, проверено) начал нащупывать свой темп, границы боли, предел движений. Я пробовал себя заново: проверял, раскачивал, нащупывал, смотрел, напрягал, трогал. Я восстанавливал физические и душевные силы. Я — оживал.
И вот наконец приехал Слава. Я не знал, куда меня выводят. Спустили вниз по ступенькам, закрыли в отстойник. Стою. Жду. Входит Слава, бросает на меня взгляд, не узнает и проходит мимо в следственные кабинеты. Следом заводят меня. «Привет», — говорю я и замечаю в его глазах секундный испуг, смятение, шок от моего «шикарного» вида. Но затем он берет себя в руки, его ноздри расширяются от злости или, может быть, гнева. Слава решительно достает ручку и бумагу и спрашивает: «Что случилось?» Я начинаю рассказывать, а он молча записывает имена, фамилии, обстоятельства, впитывая информацию, как губка. И я наконец-то даю выход своим нервам, перекладывая часть своей тяжести на Славины плечи. Выговариваюсь, зная, что дальше будут действия и решения, будут предприняты какие-то шаги для обеспечения моей безопасности. И мне становится легче и спокойней. Теперь я вижу, что я не один.
А потом Слава сообщил, что вместе с ним в Тулун приехали мой отец и брат и что есть возможность, несмотря ни на что, организовать встречу. Я убрал платок от слезящегося глаза и сказал, что это невозможно! «Посмотри на меня! Как я могу в таком виде показаться отцу? Это недопустимо». И запретил Славе рассказывать о том, что произошло (я надеюсь, он сдержал слово). Стоило пожалеть нервы родителей. Это была моя проблема, которую я должен был решить сам.
Мы обговорили все необходимое, не засиживаясь, и Слава убежал работать. А меня препроводили в пустую ледяную камеру.
Меня продержали в больничном отделении около недели. Каждый день меня выводили в медкабинет и ставили уколы в задницу. Давали мазь от синяков. Гематомы на лице сходили на удивление быстро, раскрашивая его разными цветами. Раны затягивались, усыхали, покрывались корками и чесались. Опухоль на лице спала достаточно, чтобы я мог видеть окружающую меня убогость сквозь прорези приоткрывшихся глаз. Левый выглядел ужасно. Красная, залитая кровью щель без единого намека, что этот глаз живой. Но он все-таки сохранился. Очень медленно зрение начало возвращаться, выдавая мутную, нечеткую картинку. И это уже радовало. Мое разноцветное лицо постепенно начинало походить на меня. Но все равно я не мог смотреть на себя в зеркало без содрогания.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу