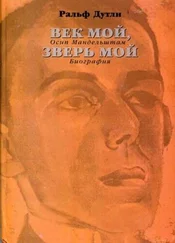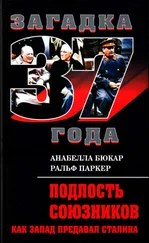По ночам они выбираются наружу, открывают для себя город в бледном свете газовых фонарей. Скудное молоко ночных улиц Вильны. Несмотря на все грязные закоулки, глубокие лужи, испещренные шрамами улицы, на стены, воняющие селитрой, – предвкушение того единственного города, который их ждет. Каждую копейку они берегут ради великой поездки. Бесконечно ретушируют портреты у фотографа. Кремень уезжает первым, в 1912 году. Они завидуют ему, обещают скоро к нему присоединиться. Кико – следующий, несколько месяцев спустя. В этот раз Сутин не предпоследний.
Ему кажется, будто катафалк, оторвавшись от земли, летит теперь над Вильной, этим литовским Иерусалимом, и сквозь прозрачное днище он видит Набережную, Арсенальскую, Антокольскую. Далеко внизу под собой видит он гору Гедими-наса и замок Сигизмунда Старого, костел Святой Анны, и костел Петра и Павла, и часовню у Острой Брамы, он не чувствует головокружения, только удивляется, что ему все так хорошо видно. Даже статую Моисея в соборе Святого Станислава, к которой они часто потихоньку подбирались, чтобы молча постоять перед ней. И он видит три крохотные фигуры, бегущие по улочкам, – студентов-художников Кико, Крема и Хаима. О ты, слияние Виленки и Вилии, литовского Нериса!
И наконец незабываемый момент – доктор Рафелкес, у которого студенты ужинали по пятницам, сует ему в руку деньги на дорогу. Дочурка доктора нашла себе жениха получше, она больше не отвечает на его робкие взгляды. От ненасытного едока, который не знает манер и все время тягостно молчит за столом, нужно деликатно избавиться. В Вильне ему выпишут русский паспорт – 20 марта 1913 года по юлианскому календарю. Он то и дело будет поглаживать его, как хитрую черную кошку.
Ма-Бе, куда мы едем? В Малинов? Падерборн? В Смиловичи? Давай повернем обратно. Только не туда.
Он поворачивает запястье, машет им в пустом пространстве.
Лучше назад в Шинон, к Ланнеграс, куда-нибудь назад, только не туда. Не к месту рождения. Ни одна дорога не ведет туда. Нас там больше нет, даже в воспоминаниях. Там никто никого не ждет.
Как же хорошо ему все видно. Он летит и летит и далеко внизу видит лицо, прижавшееся к окну поезда. Это его лицо. Видит глаза, жадно впитывающие незнакомые пейзажи в кайме паровозного дыма. Ему снова двадцать. Он наконец покинул Вильну весной тринадцатого. Он путешествует в глубинах своей сорокадевятилетней жизни, два дня и две ночи он в дороге, смотрит на огни, танцующие мимо окна. Невиданные ландшафты. Жесткие скамейки, затхлый запах пота и едкий запах мочи из уборной, но при всем том трепетное ожидание, что вот-вот начнется новая жизнь, что в конце пути ждут невероятные чудеса, окрыляет его.
Он голоден, как никогда прежде. Провиант – пара корок хлеба, селедка в газете, соленые огурцы – быстро проглатывается. В руке он сжимает письмо Крема, перечитывает его снова и снова.
Мы живем здесь очень бедно, зато многие говорят по-русски, на идише или по-польски, ты быстро освоишься. Здесь нет казаков, они нас не побеспокоят. Мы будем рисовать! Невзрачный дворец, в котором мы поселились, это просто чудо, он называется La Ruche.
Он снова в Париже, в 1913 году, ему опять двадцать. В улье своей памяти он поднимается чуть выше к моменту своего прибытия в мировую столицу живописи. Ковно, Берлин, Брюссель, торопливые пересадки, будто в полусне, одна лишь цель имеет значение. Прибыв на Северный вокзал, он выпадает из поезда, как из половинок треснувшей скорлупы. Вокруг – гудящий новыми словами мир под названием Париж. Он сразу же принимается искать дорогу, останавливает прохожих, бормочет «ля рюс» , тычет пальцем в письмо Крема, и в конце концов его отправляют вниз, под землю. Там он попадает в лабиринт бесконечных переходов, наполненных кислой вонью, и снова решает выбраться на белый свет и идти пешком.
Полуслепой от усталости, он бегает по улицам, боромчет «ля рюс» , снова и снова, только «ля рюс» . Заблудившаяся пчела, ищущая свой улей. Случайно у него на пути попадается художник, тот сразу все понимает.
La Russe? Какую русскую ты ищешь? Тебе, наверное, нужно в Улей, La Ruche ?
Он чертит на ладони, куда ему нужно идти, не на север, не в «Бато-Лавуар», где обосновался Пикассо, он перечеркивает север крестом. Линия жизни на ладони – это Сена, которая делит город на две части, держись все время юга – он разбирает только два слова «момпарнас» и «воширар» – там спросишь, как идти дальше. Он не удивляется, что встретил художника, думает, тут все художники, я теперь в раю живописцев, грязном, пахнущем мочой, с кучами конского навоза на улицах, но все-таки в раю. Он долго плутает по улицам, пока наконец в два часа ночи не оказывается у железных решетчатых ворот.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу