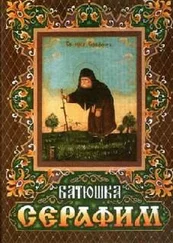Таково уже было расположеніе мыслей Ѳедосьи Карповны. Ревность рвала ея душу на части. Къ тому же и кухарка, обрадовавшись случаю, рѣшительно утверждала, что ни на минуту не выходила и никто къ нимъ не входилъ, и что хоть и слышались ей въ просонкахъ изъ спальни какіе-то шаги, но разсудивъ, что оттуда некому выходить, кромѣ барина или барыни, она не сочла нужнымъ встать и по смотрѣть… Хоть герой нашъ знался совсѣмъ не Макаромъ, но мы не можемъ здѣсь нсезамѣтить, что на бѣднаго Макара и шишки валятся!
Вотъ уже и девять часовъ, время, въ которое бывало Петръ Иванычъ, спокойный и счастливый, хлѣбнувъ два, три стакана чайку, поцѣловавъ жену, поцѣловавъ дочь, съ портфелемъ подъ мышкой, отправлялся, нѣсколько согнувшись, смиреннымъ, никого неоскорбляющимъ, но и не вовсе чуждымъ самостоятельности шажкомъ въ свой департаментъ…
Но не одѣвается, не пьетъ даже чайку, не цѣлуетъ жены и дочери и не идетъ въ департаментъ растерявшійся Петръ Иванычъ. Мрачно у него на душѣ; при одной мысли, что надо идти на службу, морозъ пробѣгаетъ у него по кожѣ, отъ макушки до пятокъ. Вся жизнь отъ сѣченья и греческихъ спряженій въ дѣтствѣ, голоданья и переписыванья въ юности, до послѣдняго недавняго распеканья — проходитъ передъ его глазами, — и ничего, кромѣ смиренномудрія, и вѣчной безпредѣльной покорности — не видитъ онъ въ ней; хоть бы слово когда грубое какое сказалъ, хоть бы недовольную мину выразилъ на лицѣ — никогда! никогда! Даже покушенія на что-нибудь подобное за собой не запомнитъ! Чистъ, чистъ! со всѣхъ сторонъ, какъ ни поверни, чистъ! И между тѣмъ, сердце болѣзненно съёживается отъ страха, какъ-будто преступленіе какое-нибудь совершилъ человѣкъ, какъ-будто начальнику нагрубилъ!
«Что скажетъ начальникъ отдѣленія!» думаетъ Петръ Иванычъ (несомнѣнно, что господинъ, ѣхавшій на дрожкахъ, былъ его начальникъ отдѣленія). «Что скажетъ начальникъ отдѣленія?…» думаетъ онъ, большими шагами расхаживая по комнатѣ, и никакъ не можетъ рѣшить, что скажетъ начальникъ отдѣленія, хоть и предчувствуетъ, что онъ скажетъ что-то страшное, что-то такое страшное, отчего мало посѣдѣть въ одинъ часъ, отчего мало даже провалиться сквозь землю… И ни убѣжденіе въ своей невинности, никакія размышленія, никакіе доводы ума, ничто не утѣшаетъ безутѣшнаго Петра Иваныча! «Да, ужь не подать ли мнѣ просто въ отставку», думаетъ онъ: «такъ даже и не являться, а просто подать въ оставку, и кончено, а покуда выйдетъ отставка, тиснуть въ «Полицейской Газетѣ», что вотъ такъ и такъ дескать, чиновникъ
съ одобрительнымъ аттестатомъ»…
Тутъ онъ на минуту запнулся… «Вѣдь ужь мнѣ, вѣрно, дадутъ аттестатъ одобрительный?» продолжалъ онъ съ нѣкоторымъ смущеніемъ: «что-жь? служилъ я не хуже другихъ, нехуже другихъ, сударь ты мой, въ штрафахъ и подъ судомъ не бывалъ, зложелателей, благодаря Всевышняго, не имѣю… подалъ въ отставку… ну, что-жь? Вышелъ случай такой, съ кѣмъ не случается?… просто случай вышелъ такой… Такъ вотъ оно хорошо было-бы публиковать, что вотъ-де чиновникъ съ одобрительными аттестатами, титулярный совѣтникъ, — я думаю даже не худо будетъ выставить: имѣющій такіе-то и такіе-то знаки отличія… Такъ вотъ молъ, такой-то и такой-то чиновникъ, имѣющій такіе-то и такіе-то знаки отличія, хорошій чиновникъ, дескать, благонадежный чиновникъ, ищетъ мѣста управляющаго имѣніемъ, преимущественно
въ малороссійскихъ губерніяхъ, на выгодныхъ, дескать, для владѣльца условіяхъ…
Да! да! Въ малороссійскихъ губерніяхъ лучше — климатъ теплѣе, да и народъ-то попроще… народъ-то попроще, вотъ оно что, главное дѣло, сударь ты мой, народъ то попроще, вотъ она штука то какая!
А поди-ка сунься въ Костромскую, въ Ярославскую… ухъ! шельма на шельмѣ! Всякій мужикъ туда же граматѣ знаетъ и на каждомъ синій армякъ… на каждомъ на шельмецѣ-то синій армякъ, вотъ оно что, вотъ она штука-то какая, вотъ она какая штука то!
Избалованныя губерніи! Нѣтъ, вотъ бы гдѣ-нибудь въ малороссійскихъ, примѣрно въ Полтавской; три, четыре тысченки душъ, съ мельницами, съ фруктовыми садами, со всѣми угодьями, съ господскимъ строеніемъ; а баринъ-то себѣ гдѣ-нибудь за тридевять земель, въ Москвѣ, въ Петербургѣ, въ Парижѣ… а баринъ-то себѣ въ Москвѣ, а баринъ-то въ Петербургѣ, а баринъ-то себѣ въ Парижѣ, баринъ-то себѣ за тридевять земель, какъ въ сказкѣ говорится, какъ въ русской-то сказкѣ сказывается… Ухъ! раздолье-то! раздолье…» Тутъ Петръ Иванычъпотеръ руки отъ удовольствія, потому что уже, въ самомъ дѣлѣ, почувствовалъ себя управляющимъ такого имѣнія, — на что русскій человѣкъ очень скоръ… «Да, только та бѣда», продолжалъ онъ, вдругъ опомнившись, и вновь совершенно опѣшевъ, какъ человѣкъ, съѣвшій муку: «Да, только та бѣда, что никто не возьметъ, за фамилію никто не возьметъ… управляющій! ужь въ одномъ словѣ сейчасъ слышится Нѣмецъ, какой-нибудь Карлъ Иванычъ Бризенмейстеръ, или еще помудренѣй, такъ, чтобъ мужикъ и подумать не смѣлъ выговорить, какъ слѣдуетъ, чтобы у него языкъ поперекъ глотки сталъ. Бѣдь вотъ, будь нѣмецкая фамилія, хоть подобіе нѣмецкой фамиліи будь… а то — Блиновъ! на вотъ тебѣ въ самый ротъ — блиновъ! горячихъ блиновъ! подавись!…» И здѣсь герой нашъ въ первый разъ въ жизни пожалѣлъ, что у него русская фамилія, чему онъ сорокъ лѣтъ слишкомъ постоянно былъ радъ, и даже благодарилъ Бога, что и оканчивается она на овъ, а не на скіи. «Да, опять и то», продолжалъ размышлять нашъ герой: «осанки такой не имѣю, осанки, соотвѣтствующей званію управителя не имѣю, вотъ она какая бѣда, вотъ она бѣда-то какая надо мной горемычнымъ, осанки, соотвѣтствующей званію, не имѣю, — не имѣю осанки званію управителя соотвѣтствующей, совсѣмъ осанки такой не имѣю. Нашъ братъ и смотритъ-то, какъ-будто все чего-то боится, и идетъ-то, какъ будто проситъ прощенія у половиковъ, которые недостойными ногами своими попираетъ, и въ лицѣ такое подобострастіе, такое подобострастіе, что и сказать нельзя, никакъ нельзя сказать, недостанетъ
Читать дальше