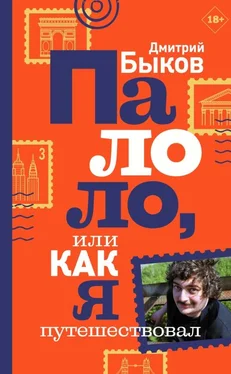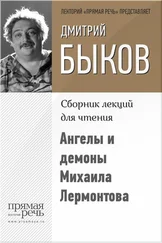– А раньша так и жили! – призналась Мария Григорьевна Мосева, девяносто одного года от роду. – И все жили по триста, а которые и более. В Библии сказано. Потом по грехам так сделалось, что стали меньше, меньше: сто пятьдесят, сто двадцать. А потом вообще положили человеку по семьдесят годов. Я вот думаю: может, я от тех людей пошла? Мосева – можа, Моисеева? Моисей, пишут, долго жил. Если они только ходили сорок лет с ним в пустыне-то, так уж лет девяносто он точно жил. А мафусаилов век, говорят, был девятьсот с лихуем.
«С лихуем» – это, вероятно, местная форма иудейского «лехаим», то есть «будем жить долго». Но вообще Мосевы вряд ли как-то связаны с Моисеем, разве что они и есть одно из отколовшихся колен Израилевых. В роду у Марии Григорьевны все были долгожители, отец её прожил сто три года. Вообще ходить по местному кладбищу – занятие странное: в обычной русской деревне люди гибнут в тридцать пять, в сорок – от запоя, от аварии (опять же по пьяному делу). А тут – восемьдесят пять, девяносто, девяносто пять лет. Есть, наверное, старые могилы, на которых просто дат не прочтёшь: кто-то умер во младенчестве, кто-то погиб в той же аварии, но большинство живёт долго и до последних лет сохраняет ясный рассудок. Не понимаю, допустим, почему бы инвалиду войны Володе Пименову (отчества он так и не сказал, считает себя молодым – восемьдесят семь всего) не прожить ещё годов двадцать. Он хоть и без ноги, а залезает как-то по лестнице на крышу, чинит её по мере необходимости. Утверждает, что летом к нему приезжает библиотекарша из Вологды, ещё молодая, и делает вид, что ездит купаться и оздоравливаться, но на самом деле специально за этим делом, только виду не подаёт и до себя не допускает, потому что гордая. Правда, по сообщению злобной соседки Катерины Макаровой (89 лет, муж Павел четырьмя годами моложе), она к нему приезжала всего один раз и без всяких домогательств, искала купить избу, но у Володи изба нехорошая, холодная. Она пыталась и у них торговать, потому что у них изба хорошая, но Макарова в город переезжать не хочет ни за что. Во-первых, внуки у неё и правнуки, и пусть лучше они приезжают; во-вторых, земля теперь, она слышала, очень вздорожала. Макарова хочет дожить до тех времён, когда она вздорожает окончательно, и тогда можно будет приобрести сразу же дом ближе к Вологде или по крайней мере очень большую квартиру. А сейчас продавать дом в деревне совершенно невыгодно и дураков нет.
После девяноста лет с человеком что-то всё-таки происходит. Не то чтобы самые старшие бобринцы становились тупее или беспомощнее, а просто у них пропадает интерес к внешним событиям. Допустим, Соболевой Анне Афанасьевне девяносто два года, и она хорошо ходит, способна летом даже огород прополоть («А полоть нетрудно, я ж и так согнутая вся»). Но раньше, до девяноста, она имела интерес к политике. А теперь не имеет.
– И радива я не слушаю, и телевизера у меня нет, я смотреть его к Фроне ходила, а теперь и к Фроне не хожу. А чего они скажуть? Ничего они не скажуть, и нету мне дела. В Бобрине как было всегда, так и есть.
В этом смысле всему населению России, видимо, сейчас как раз слегка за девяносто: послушать радиво, если играет у соседа, оно ещё может, но специально смотреть телевизер ни к кому не пойдёть.
У Свифта были описаны струльдбруги – вечно живущие люди, у которых после 115 лет исчезают последние признаки интеллекта. Проблема в том, что они были не русские. Им всё время хотелось есть и спать, и ни о чём, кроме физических отправлений, они не думали. Русские умеют мало есть и спать, а думают всё время, только не говорят, о чём. В Бобрине очень тихо, все о чем-то размышляют, но говорить вслух необязательно. Они могли бы, наверное, поведать о космических тайнах и о безднах национального бытия, но эти вещи вслух не формулируются. Галя Кузьминова, восьмидесяти девяти лет, может сидеть на солнышке хоть с утра до вечера, и всё это время на лице у неё сосредоточенное, серьёзное выражение – никакой деменции. Но говорить с людьми она не любит: незачем. Всё ж и так давно понятно.
Старейшая бобринка, Александра Михайловна Добротворцева, отпраздновала давеча сто третий год рождения. Муж её давно умер – он не был долгожителем, прожил всего семьдесят лет, – а сама она и теперь твёрдо помнит, и как ломали бобринскую церковь, и как ликвидировали безграмотность, и даже как отменили трудодни. Но воспоминания у неё отрывочные, записывать за ней трудно. Лучше всего ей почему-то запомнилось, как ей, шестилетней (дело было, стало быть, в 1908 году, в год восьмидесятилетия Льва Толстого), отец вдруг привёз из города сахарную голову, небольшую, жёлтую, с картинкой, изображавшей сцены из истории. Сахарную голову эту долго не ели, потом только (детей в семье было пятеро) месяца три лизали по очереди, пока не излизали всю до последнего оглодка, который ещё потом мать на свече перетопила в жжёный сахар, вроде леденца. Это впечатлило Александру Михайловну настолько, что заслонило даже полет Гагарина, который вызвал в Бобрине большое ликование. Вообще Александра Михайловна почти не помнит, что было вчера, и в этом нет необходимости, потому что вчера ведь было всё то же самое. И завтра то же самое. Даже если Москва перестанет существовать, в Бобрине ничего не изменится. Человек тут консервируется. Племяннице Александры Михайловны, которая приехала сюда ухаживать за ней из-под Воронежа в пятидесятилетнем возрасте, сейчас семьдесят. Но выглядит она всё равно на пятьдесят, несмотря на все трудности деревенской жизни. И кофточка, которую она демонстрировала фотографу Бурлаку, – шестидесятых годов, по тогдашней яркой моде; но ещё носится.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу