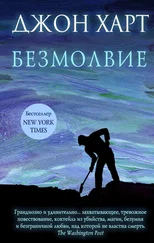Я долго еще стоял напротив той башни, немного наискось, почти вплотную к стене какого-то дома, и перед моим мысленным взором проплывали события, участником которых мне стать не довелось. Время от времени торопливо мелькали фигуры одиноких прохожих. Площадь словно приковала меня к месту, но пора было уходить, и вот я уже на Герехтихкайтсгассе — улице Справедливости. Нарекли ее этим именем не иначе как затем, чтобы поддержать в людях веру, будто на земле еще остался такой уголок. С моста Нидеггбрюкке, соединявшего высокие берега реки, поросшие густыми, развесистыми деревьями, сквозь кроны которых то тут, то там проглядывали звездочки огоньков, я видел внизу стремительный темно-зеленый поток. Ночной ветер, сильный только здесь, высоко над Ааре, обдувал мое разгоряченное лицо. Шум бегущей воды рождал чувство сладкой усталости и был единственным живым звуком в замершем городе. Но ощущение мертвой неподвижности Берна прошло, когда я брел по улице Постгассе, мимо ратуши, — одинокие женщины стояли под аркадами, они не заговаривали с мужчинами, те, приоткрыв дверцу машины, первыми обращались к ним, некоторые женщины садились, и машина неслась в направлении района Бруннен.
Я хотел снова ощутить прохладные струи ветра над Ааре и, глядя с моста Корнхаусбрюкке на вереницу автомобилей, подчеркнуто медленно ползущих вверх по извилистым дорожкам среди пышной прибрежной зелени, неожиданно подумал, как просто было бы вот сейчас перелезть через ограду моста и прыгнуть вниз, доверившись живому току вод. Голова моя, правда, уже остыла, но искушение было почти непреодолимым. Миг — и блаженная стремнина оставит о тебе одно лишь воспоминание. Сзади прогромыхал трамвай, совершенно пустой, если не считать вагоновожатого. Я отступил от парапета, повернулся и зашагал к центру города.
С улицы в комнату залетало столько шума, что сон никак не шел. Я отбросил одеяло, раздвинул шторы. Посреди Нойенгассе тарахтел огромный желтый кран. Что это им в голову взбрело работать ночью? Чтобы днем не мешать движению? А как же людям спать? Под моим окном прохаживались две женщины. На другой стороне улицы появились две девушки, молоденькие и длинноволосые. Из Генфергассе выехала черная машина. Затормозила. Пожилой мужчина выбрался из нее, жестом пригласил девушек прокатиться. Одна из девушек — мне только сейчас удалось разглядеть, что она была совсем юная и очень хорошенькая, — согласно кивнула. Тогда из машины вышел другой мужчина, в черной форменной одежде, и распахнул дверцу перед девушкой, почтительно ожидая, пока она договорится с хозяином.
Я снова попытался заснуть. На Нойенгассе теперь колотили металлом о металл. Я опять бросился к окну. Второй девушки уже не было, а те две женщины все ходили взад-вперед по тротуару. Подошел какой-то мужчина, сказал что-то одной из них, на ходу поцеловал ее, и они разошлись, каждый в свою сторону. Неужели она так и ждала все это время одного-единственного беглого поцелуя? Но отчего на душе у меня вдруг стало так отрадно? Может быть, из-за того старика и его шофера в неприметной лакейской ливрее? Они показали мне, что за деньги можно получить все. Женщина внизу бродила теперь в одиночестве. Я перегнулся через подоконник, чтобы лучше разглядеть ее лицо. Она неуверенно ступала на высоких каблуках, скорее ковыляла. Взглянув наверх, она заметила меня, улыбнулась и что-то пробормотала, я ничего не разобрал и, смутившись, захлопнул окно. Почти до рассвета я лежал, ожидая, когда наконец чуткий полусон унесет меня полетом птичьей стаи в заветные камышовые заросли.
В шесть утра меня разбудило необычное оживление, заполонившее все улочки и переулки вокруг гостиницы. Вокзальные эскалаторы без устали доставляли наверх, в город, новые и новые партии людей, озабоченных, словно боящихся опоздать куда-то. Я было сел за свой доклад, но нескончаемый топот множества ног не давал мне сосредоточиться. Я позавтракал и вышел на улицу, перед заседанием мне хотелось еще раз посмотреть сверху на город. Но, разглядев уже издали огромные толпы спешащих через мост людей, я решил спуститься к воде и скоро легким, бодрым шагом шел вверх по течению Ааре, которая сейчас, в пронизанной солнцем легкой дымке тумана, казалась изумрудно-зеленой. Противоположный берег вздымался сплошной зеленой стеной; до меня донесся голосок малиновки, несколько раз принимался петь крапивник. Прохладный речной ветерок обдувал лицо и лоб, на котором выступили капельки пота — свидетельство беспокойной ночи. Почему за все время, что я здесь, меня ни разу не посетила моя навязчивая идея и я беспечно, ни о чем не думая, иду вдоль стремительно несущихся вод? Лето будто и не собиралось еще уступать осени свои права. В кронах деревьев, более тяжелых и густых, чем у нас, не видно было ни малейшей желтизны, казалось, деревья тут созданы вечно стоять в зеленом наряде. Мне вдруг захотелось остановить этот миг навсегда, слить воедино бегущие волны, щедрую зелень берегов, изумрудные блики солнца, играющие в легком утреннем тумане, — запечатлеть их в себе и оставить людям. Как ни странно, это желание невольно связывалось с мыслью о смерти — оставить, чтобы жить дальше в их памяти. Но никому не почувствовать до конца то, что дано было испытать мне одному, я, и только я, знаю причину неповторимости ощущения происходящего, поскольку лишь в моей жизни были площади, и мир навязчивого подсознания, и девушка по имени Марта. Мгновение — и все уйдет в прошлое; этот живой бурлящий поток, зажатый высокими берегами, никто и никогда уже не увидит его таким, каким он предстал передо мной, ведь и дух мой когда-нибудь оторвется от бренной плоти, и не повторится этот час и эта минута. Мне показалось, что я нашел логическое разрешение моей навязчивой идеи; не умереть мне суждено, просто я обречен на внезапное прозрение, на постижение сути того, что есть смерть. Наверное, это даже страшнее, чем сама смерть: ведь за нею не следует ничего, а за мыслью о ее неизбежности следует целая жизнь с долгим ожиданием конца.
Читать дальше






![Роб Харт - Склад = The Warehouse [litres]](/books/396684/rob-hart-sklad-the-warehouse-litres-thumb.webp)