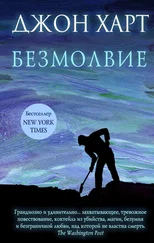Я возвращался назад под густым зеленым сводом аллеи Лаубенгенге. В вечерние часы этот город мало чем отличался от других городов. Горели уличные фонари. Проплывали мимо призрачные темные фигуры прохожих. В узких проулках прятались таинственные тени. Но чего-то не хватало. Я шел уже по Юнкернгассе и, оттого что на родине не так часто выходил вечером на улицу, понял, чего тут недоставало. Закусочных, где всегда толпились подростки. Почему мне сейчас вдруг так захотелось увидеть длинноногих, с распущенными волосами девчонок, которые в Нидерландах пасутся буквально во всех закусочных и кафетериях и, вероятно, так же легко доступны, как жареная картошка «фрит»? Почему при виде этих юных особ мне порой казалось, что походи я года три в такие забегаловки, и не страдал бы сейчас от своих комплексов? Нет, вряд ли, просто надо было в свое время почаще назначать свидания разным другим девчонкам, бродить с ними по окрестностям, в сумерках или под весенним солнцем. Теперь это невозможно. Все ушло безвозвратно и навсегда. Рассчитывать уже не на что. Но вместе с тем я гордился, что не поступил так, и точно в одобрение этого передо мной, прямо посередине улицы, неожиданно выросла приземистая башенка с широкой покатой крышей и с циферблатом под ней, больше напоминающим человеческое лицо. Башню я узнал сразу, потому что видел ее изображение в какой-то книге об Эйнштейне. Вот здесь он — фантазировал я, — проезжая мимо в трамвае, однажды представил себе, что если двигаться со скоростью света и при этом смотреть на огромный циферблат, то стрелки останутся неподвижными. Гениальная догадка, по значению своему намного превосходившая открытие Джеймса Уатта, которое тот сделал на кухне своей матери, — открытия всегда были привилегией замкнутых, обращенных в себя, одиноких личностей (к сожалению, члены этой формулы поменять местами нельзя: если ты такой же, как я, то это отнюдь не гарантирует, что тебе дано сделать подобное открытие), людей, способствовавших прогрессу человечества, победивших холеру, тиф и чуму; тех избранников, чьи прозрения воплотились в реальные формы власти над материей и тайнами существования.
Я направился по Крамгассе в сторону Медвежьей ямы, потом свернул направо, чтобы разглядеть вблизи давно уже замеченную башню. Я шел и шел по Мюнстергесхен и внезапно — я к этому не был готов — передо мной распахнулась площадь, совсем небольшая, но пугающе голая и безлюдная, без единой машины. Ни деревца, ни кустика, абсолютная, внушающая ужас пустота, по ту сторону которой перстом божьим взмывала вверх башня. Она застыла точно каменный колосс на границе чужого владения, и я почувствовал, как кровь застучала у меня в висках. Я словно вернулся в детство, на ту самую площадь, которую впервые увидел, когда меня повели удалять миндалины, и которую много позже по дороге на катехизацию видел по вечерам регулярно один раз в неделю. Мне тогда уже исполнилось тринадцать, но каждый раз я, затаив дыхание, останавливался где-нибудь в темном уголке и смотрел, как ребята играют на площади. Была у них одна игра, они называли ее «пряталки». Тот, кому доставалось водить, отворачивался к стене, зажмуривался, даже закрывал лицо руками и считал: «Десять, двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто, сто десять — убегай, а то повесят». Потом он отправлялся на поиски тех, кто спрятался; некоторые оказывались расторопнее, успевали добежать до стены раньше его и «выручиться», как они говорили, после чего ждали, пока водящий отыщет остальных. Иногда я тоже прятался, но, если меня находили, результат всегда был одинаков: «Ты с нами не играешь»; их крики я слышал потом весь вечер, и даже в консисторскую, где нас гоняли по нудным вопросам и ответам Гейдельбергского катехизиса, до моего слуха доносились обычно приглушаемые окнами звонкие голоса ребят на площади, меня неудержимо тянуло туда, к ним. Но я казался им переростком, мое детство было уже далеко позади, однако оно оставило мне неосуществленные желания, манящий звук ребячьих голосов проникал сквозь витражные стекла, а я сидел среди своих ровесников-мальчишек (у девочек катехизация, конечно же, проводилась в другой день), они скучающе-рассеянно смотрели перед собой, совсем не прислушиваясь к нудному, монотонному голосу пастора, впрочем, то, что происходило на улице, интересовало их еще меньше, ведь это был пройденный этап — время игр на площади до самых сумерек для них миновало, отыграли они свое в футбол, и «вертушку», и «пряталки», накричались вдоволь, и голоса их не раз возвращались к ним, потому что, когда площадь пустела, на ней появлялось невидимое эхо.
Читать дальше






![Роб Харт - Склад = The Warehouse [litres]](/books/396684/rob-hart-sklad-the-warehouse-litres-thumb.webp)