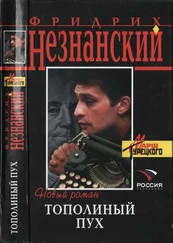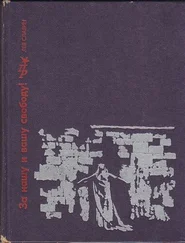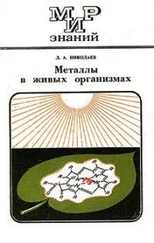Тридцать первого декабря Сережка почти весь день был дома. К вечеру он увидел, что мать вытащила из шкафа самовар и пошла его чистить.
«А как он будет гореть? — подумал почему-то Сережка. — Что? Дым будет прямо в комнате?» Войдя в кухню, Сережка все-таки спросил:
— А как, будет гореть самовар?
— Будет… — ответила мать. — А не поспать бы тебе, — заботливо взглянула она на него, — ведь Новый год будем встречать… Да, Сережа… — добавила она уже другим тоном, — ты не будешь возражать, если к нам сегодня придет гость?
Она первый раз спрашивала у него разрешения, и он насторожился:
— Кто?
— Один дядя.
— А кто он?
— Ну, один военный, вернее, бывший военный, — сказала она и отвернулась. — Он воевал, был ранен. Он хороший человек, добрый, — уже не смотрела Надежда Петровна на Сережку, — очень добрый…
Сережка ни разу не встречал Новый год по-настоящему. Он ни разу не сидел в двенадцать часов за столом и не слушал кремлевских часов, хотя знал, что Новый год встречают именно так. Ему хотелось встретить Новый год по-взрослому, в отличие от большинства своих сверстников, которые, конечно, сегодня в двенадцать часов будут уже спать. Представился на столе самовар, закуски, курица, которую поджарит мать и которая уже несколько дней висит у них за окном. Перед глазами встали стаканы, лафитники. Потом Сережка поменял их в своем воображении на разноцветные рюмки, поставил на столе две тарелки — для матери и для себя. И тут вспомнил, что сегодня у них будет гость. «А где он сядет? — серьезно подумал Сережка. — И почему он сегодня придет к нам?»
Ему не хотелось, чтобы к ним кто-нибудь приходил.
Максим Матвеевич пришел около десяти. Сережка узнал его сразу же. Раздевшись в коридоре, пожал Сережке руку, задержав на нем взгляд, и прошел в комнату. Он поставил на пол тяжелую сумку, в которой гулко звякнули бутылки, и сразу же обратил внимание на самовар.
— Какая прелесть! — сказал он. — С самоваром сразу чувствуешь домашний уют…
Потом он перевел взгляд на елку и покачал головой:
— А вот это уже непорядок! Скоро Новый год, а мы еще без праздничных огней. А ну-ка, Сережа, включай скорей!
Он посмотрел на стенку, словно хотел найти розетку, но затем снова повернулся к Сережке:
— Включай! Включай!
— А они не горят.
— Как?
— Перегорели, наверно, — улыбаясь, добавила мать. — Сережа включал, а лампочки не загораются.
Сережке не понравилось, что она ему это рассказывает.
«Еще не хватает, чтобы сказала, что я и вилку раскручивал…» А Максим Матвеевич уже выворачивал из гирлянды лампочки и смотрел каждую на свет.
— Есть! — радостно воскликнул он. — Попалась! — И, покрутив в пальцах желтоватую стекляшку, снова ввернул ее в патрон. Лампочки загорелись.
— Ой! — воскликнула мать и даже хлопнула в ладоши.
Это Сережке тоже не понравилось. Он посмотрел на нее, словно хотел что-то сказать, но она торопливо вышла из комнаты. Они остались одни. Сережка ждал, что Максим Матвеевич сейчас обязательно его о чем-то спросит. Но тот не спрашивал, и тогда первым заговорил Сережка.
— А зачем вы к нам приехали? — выпалил он.
Максим Матвеевич даже не понял вопроса:
— Как зачем?
— Зачем приехали? — уже тверже повторил Сережка. — Нечего вам делать у нас.
Максим Матвеевич выпрямился. С минуту, казалось, обдумывал ответ. Да что здесь придумаешь, и так все ясно.
— Значит, вон гонишь? — сказал он так, будто подбирал слова. — Ну, что ж…
Максим Матвеевич опять задумался, а потом неторопливо направился к двери.
— Извини, — сказал он, повернувшись к Сережке. — Я не знал…
Когда мать вернулась в комнату, Максима Матвеевича уже там не было. Не было в коридоре и его шинели.
Прошел Новый год, и наступили каникулы. С Павлом Андреевичем Сережка виделся почти каждый день, а один раз даже у него ночевал — мать разрешила. Утром, пока Вера Николаевна готовила завтрак, они пошли гулять. Снег скрипел под ногами. Несмотря на то что было еще рано, его успели уже утоптать, потому, наверно, он и лежал таким твердым настом, принимая четкую печать каблуков. Солнца не было. Не было и ветра. Проезжавшие с обеих сторон машины мешали тишине, которая, казалось, хотела здесь установиться. Впереди показался памятник Пушкину. Они подошли к нему.
— «И долго буду тем любезен я народу, — начал читать Павел Андреевич. — Что чувства добрые я лирой пробуждал…»
«Что в мой жестокий век, — продолжал про себя Сережка, — восславил я свободу…»
Читать дальше