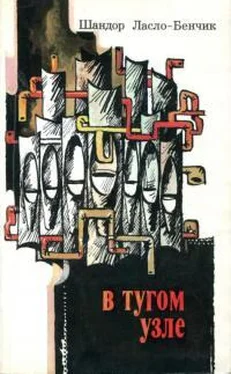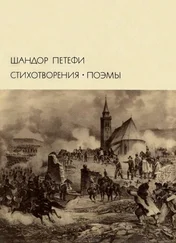Хуже этого, пожалуй, только одно: тухлый рай старого Чертана.
Я боюсь за тебя, Богарчик, донельзя боюсь…
Наверное, в течение нескольких часов продолжался этот сумасшедший спор, пока я не посчитал наиболее разумным заключить с самим собой перемирие. Я решил: будь что будет, а отступать не стану. Когда нужно будет проявить ум и силу, то есть когда меня призовут на арену, я их проявлю. А пока самое правильное — это хорошо заправить свои аккумуляторы. В том числе и спокойствием.
Надо бы поговорить с Канижаи. Так или иначе, но не случайна же эпоха «золотой бригады».
Если в будущее и трудно заглянуть, то в прошлое вполне можно. Ведь и прыгун, прежде чем разбежаться и сделать прыжок, немного отходит назад. И мне нужно чуть отбежать назад и взглянуть на нас именно так: кто мы и что мы, и как мы дошли до нынешнего положения. Тогда, пожалуй, легче будет и сообразить, как и что нужно делать теперь, за что зацепиться. И что должен делать я в этой новой, свалившейся на меня ситуации.
Два года тому назад все выглядело еще так пристойно. А потом мы как-то вдруг покатились под уклон. Но заметили это только позже, хотя поворотным пунктом, наверное, были те дни, когда нас разбудили ночью по тревоге.
Между прочим, именно в те дни исполнилось двенадцать лет существования бригады «Аврора».
Нам показалось тогда, что время после полуночи остановилось. Отупевшими и опустошенными чувствовали мы себя. И неудивительно.
Дорога шумела и грохотала под стареньким, в ржавых пятнах ЗИЛом, мчавшим нас, насколько ему хватало сил. Выехав с пристани и миновав окраину Чепеля, мы проезжали по пустынному Шорокшарскому шоссе. Мы мчались с ужасающим грохотом, взламывая ночную тишину, обволакивавшую приземистые, погруженные в сон домики. Но мы не жалели об этом, нам даже доставляло это какую-то садистскую радость. Нас обуревал какой-то злой дух: раз нам не пришлось спать, пусть и другие не спят! Даже хотелось, чтобы заварилась каша, чтобы разбуженные нами граждане выскочили к воротам и яростно грозили бы нам кулаками. Но, по-видимому, трескотня нашей ущербной колесницы была явно недостаточной для этого, потому что не показалась ни одна живая душа. И нам ничего другого не оставалось, как, умостившись в кузове, поддаться снедавшей нас злобе. Словом, настроение у нас было преотвратное.
За нашей спиной покачивались нагроможденные один на другой ящики. На нашей машине — три и на прицепе — два. Хотя на пристани их и перевязали и заклинили мастера «раз-два — взяли!», они вытанцовывали чардаш, а доски под нами беспрестанно стонали и скрипели.
Над нашей головой весело приплясывал месяц и бесстыже лгал нам: мол, такая кругом красота, мол, то, что он открыл нашему взору, похоже на чудесную декорацию в сказочном представлении. Ну, нам-то он мог представлять эти места в любом свете; мы хорошо их знали — не в первый раз здесь, никакой красоты тут и в помине нет. Да и к тому же компания наша была не склонна к романтике — не до того! Теперь же мы тем более готовы были послать к дьяволу и ночь, и луну, и эти места, все и каждого, так как происходящее заставляло разламываться от боли наши головы.
Мы без труда могли бы представить себе куда большее удовольствие, чем эта вынужденная поездка темной ночью, в которую бросили нас наши дражайшие начальники, вытащив всех из теплой постели, от наших жен, из блаженного забытья.
Мое место — с краю, и меня нещадно бьет о борт машины. Плохонькая телогрейка почти не предохраняет меня от ударов. Но ерзать и уклоняться мне лень, так же, как и моим товарищам. Пусть плечо бьется о борт — рука постепенно немеет и перестает чувствовать. Можно погрузиться в бесконечные раздумья.
Рядом со мной трясется высохший старикан — папаша Яни, «неприкосновенный» Таймел (его нельзя обижать, он уже в таком возрасте, накануне пенсии). Он страдает астмой, не может по-настоящему набрать в грудь воздуха, да и выдыхает его с трудом, словно комочками, открыв рот, как рыба. Голова у него представляет весьма жалкую картину, лицо — словно бы без костей. Точно образцовская кукла, изображающая пьяницу: в конце номера она вся сжимается, в ней все дергается, а физиономия того и гляди совсем расплывется. Ему тоже не по нутру это ночное приключение, хотя смешно: он и в обычное время спит мало. А сегодня в душевой он как раз поверял обществу, что хотел бы хоть раз как следует выспаться.
Заводская душевая — самый демократический форум в мире, потому что в ней все одинаково голы и никто не может о себе сказать, что он не тот, каким его видят. А потом здесь всегда происходит живое и близкое общение, в котором участники его попутно и очищаются.
Читать дальше