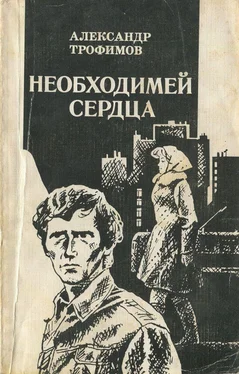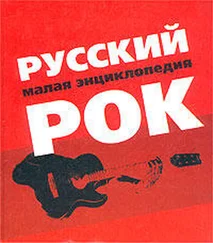Старая мать не могла долго сидеть на одном месте — ноги затекли и тело уставало как после работы. Она встала и прошаркала к окну. В прежние счастливые времена, когда сын был рядом и долго не возвращался, она ждала его до поздней ночи, случалось — и до утра, смотря в окно взглядом умного ребенка. Она часто ошибалась, заметив в постороннем молодом мужчине или сыновью косолапость, или широкий полет рук, или родную посадку головы. В том безжалостно далеком времени она, услышав чрезмерно громкий разговор или брань, не раз выбегала на улицу, боясь, как бы в ночи сына не встретили хулиганы.
Мать ни разу не легла на постель сына, хотя та была много удобнее, чем ее железная кровать, со стонущими от старости пружинами, — точно в любую минуту уставший сын мог вступить в родную комнату, где все вещи и стены помнили его, и ждали его, и жили для него.
Мать думала: как часто, возвращаясь под родной кров, человек чувствует, что вещи словно узнают его — удобно умещаются в руке, и даже колченогий стул по-своему рад вернувшемуся, и улыбается шкаф, и только стены, состарившись, приближаются друг к другу. И как быстро выветривается из человека суетливыми встречами и пустыми разговорами это ребяческое чувство свежего веселья, переполняющего глаза. И так сладко забываться во сне, на постели, от которой отвыкла, и думать сквозь сон, что нет угла уютнее твоего собственного, каким бы бедным он ни был.
* * *
В нищем свете фонарей шел медленный, как ее теперешняя жизнь, снег. Раньше надо было и на работу успеть, и сына накормить, и из школы ждать его с горячим обедом, и обстирать, и убраться в комнате — заботы о сыне были осью, вокруг которой вращалась ее простая и такая счастливая жизнь. Постояв у затушеванного чернотой холодного окна, — ватой закладывать оконные щели было для нее дорого, и она заклеила их газетными лентами, которые плохо сдерживали наступление холода, — мать прилегла в одежде на свою постель, с удовольствием вытянула сухие ноги. Она и спала теперь в одежде, совершенно не думая о себе, ибо у нее не было будущего, лишь только растянутое в завтра и послезавтра прошлое. Ночь грозила морозом, и мать ощутила не гревшие даже в шерстяных носках ноги и решила, что когда встанет, то приготовит на ночь грелку.
Бывало, что боль мучила ее по нескольку дней кряду, свив свое гнездо в уставшем от тягот, но все еще тянущемся к жизни теле. И только когда мать сосредоточенно думала о сыне, собственная боль переставала обгладывать ее плоть. Сердце в такие минуты жило неравномерно, непривычно медленны были его удары — точно оно принадлежало другому человеку, — и увлажнялись глаза в жгучей черноте зимнего вечера.
* * *
«Мой сыночек, мой Ванюша», — повторяла мать как молитву со страстью, и темнота молчала, внимательно слушая.
Настасья Ивановна время от времени посылала письма в военкоматы, в Министерство обороны и даже в Музей вооруженных сил. Но в последние годы отправляла их все реже и реже, стесняясь отрывать людей от их важных дел, и опуская письмо-запрос, она всегда представляла одного и того же важного занятого человека, который распечатает ее письмо. К ней приходили официальные ответы, она медленно прочитывала их жадными глазами. Ответы были одинаковыми: «пропал без вести». Эти полынные слова врезались в память и жгли ее. Но на последний запрос ответа не было.
Письма свои в различные учреждения она долго сочиняла про себя, и ей казалось, что они выходили длинными, неповоротливыми, и ей было стыдно самой себя.
В жизни ее было много страданий, но никогда она не жаловалась, понимая осиротевшим сердцем, как непонятна и чужда человеку чужая боль. Выслушав тысячи рассказов о горе с состраданием и покорностью, она пришла к выводу, что люди больше всего любят говорить о своих бедах. «Так уж устроен человек, — думала она, — что не может жить без несчастий, и стоит ему избавиться от одного, как прибывает другое, сколько бы раз ни выливался с неба дождь, каким бы сильным он ни был — всякий знает, что он пойдет вновь, сколько ни черпай из колодца — вода прибудет в него». Она так устала за свою долгую жизнь от горьких историй и так ясно поняла, как мало они значат для человека, что счастье или горе неподвластно им: слова как трава, — ее выкашивает забвенье, а она вырастает вновь. И каждый человек виделся ей деревом — все растут в одном лесу, близко друг от друга, а подойти друг к другу не в силах.
На кухне обсуждали хоккейный матч, новую кофточку, право мыться по субботам вечером.
Читать дальше