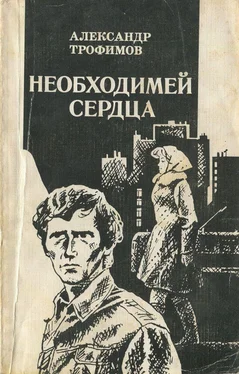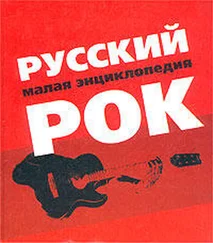Но основная сила вселенной — доброта, потому что никогда не смогут на долгий срок победить люди, в венах которых течет не кровь, а ненависть.
И когда настал час, ушел в беспощаднейшую войну и сын Настасьи Ивановны.
И пал сын безвестно на одной из безвестных высоток, и вылилась из него струя жизни, молекулы бытия.
И так же пали миллионы других сыновей и дочерей нашей Советской родины.
И родина, за которую сын Настасьи Ивановны сражался и умирал, склонялась над ним и припадала материнскими губами ко лбу, покрытому ржавчиной застывшей крови.
Но никогда не поверит сердце матери в смерть сына до конца, что бы ни говорили официальные бумаги, и всегда и везде будет она всею собой ждать единственного своего сына, и нет ничего святее такого ожидания.
И ждет Настасья Ивановна своего сына, и сколько таких матерей — кто возьмется сосчитать? — проще сосчитать звезды на небе — уже ушли с земли тихо и незаметно.
Память им на многие лета…
* * *
Когда идешь ночью по улице, мелькнет вдруг за оконной бедной занавеской старушечий силуэт, вздрогнешь, остановишься и будешь стоять, пока не растает ком в горле.
И нет на земле сильнее силы, чем сила материнской любви, нет на земле глаз глубже, чем глаза матери, тоскующей о сыне, и нет на земле души, светлее души материнской, верящей, что ее сын жив, что бы с ним ни случилось, что объявится он вот-вот, сейчас или завтра, живой-живехонький, плоть от плоти ее, кровь от крови ее, душа от души ее.
И утром не солнце всходит над нами, а материнское сердце вселенной, и да будет оно всегда, и да будет всегда жизнь на нашей планете, и не может быть иначе, ибо зачем тогда все в сущем мире.
* * *
Похоронку на сына мать давным-давно сожгла.
Вначале она берегла этот клочок бумаги так, словно он сохранял тепло сыновьей руки, но чем дальше она жила, тем медленней текло время, и в его течении остывало это чувство и истаяло наконец вовсе, и стало ей казаться, что вот-вот придет к ней сын, в теплые ее ладони опустит свою головушку, уже, должно быть, совсем седую. Она представляла под пальцами жесткость его волос, тепло родного затылка и неровность макушки, которую все еще помнили не только пальцы, но и губы ее: оскудевшие, сухие, дрожавшие время от времени так, что со стороны могло показаться, будто она силится что-то сказать, да не может по слабости сил, или жалуется кому-то на свою жизнь, или просит сына вернуться поскорее.
Она хорошо помнила все извивы огня от той проклятой похоронки. Как, торжествуя в своей правоте, вспыхнул огонь, словно бумага пыталась доказать правоту того, что написано в ней, и как быстро завял на треснувшей тарелке красный цветок, словно поняв, что невозможно что-либо доказать материнскому сердцу.
И такая важная бумага, враз изменившая в войну всю мать и весь мир вокруг нее, перестала торжествовать над смертью сына, превратилась в ничто, и с ней вместе исчезла как бы и смерть сына.
И мысль, что сын жив, хлынула в мать, оплела каждую ее клеточку, диктовала каждый поступок. Плоть ее перестала существовать, переросла в дух.
Давно это случилось.
* * *
В этот одинокий вечер мать уныло разбирала постель сына — медленно свертывала синее одеяло, изнуренное долгой жизнью, с поблекшим рисунком гигантских фантастических цветов, упрямо подминала кулачками толстую подушку внимательно проверяя, все ли ее углы плотно входят в углы наволочки, и долго выпрямляла морщины на чистой простыне, и накрывала ее тяжелым жарким одеялом. Ее некрасивые руки — с далеко выступающими из-под туго обтягивающей их сероватой кожи венами, — утолщенные в суставах, где скопилась накопленная годами усталость, двигались медленно.
Где бы ни был сын, он всегда находится от матери на расстоянии ее сердца. И руки матери, каждый отросток ее чувства принадлежали заботам о сыне, какая бы жизненная вьюга ни унесла его.
Мать сменила белье на постели сына, и, пока она его меняла, ей казалось, что вот-вот отворится дверь, впуская сына из ванны, и она скажет ему: «С легким паром», и Ваня ответит устало «спасибо», и распахнутая свежая простыня примет в себя его чистое раскаленное тело.
Внимательно оглядев работу — все ли в порядке? — и выровняв последнюю волну на одеяле, мать выключила свет и села на скрипливый стул рядом с постелью сына и так погладила подушку, словно на ней покоилась голова единственного ребенка. Она хорошо представляла в темноте его широкое лицо и слышала в равнодушной тишине, как обмирает ее остывшее сердце, чьи сосуды становились все уже и уже от боли возраста и материнского одиночества. Она долго сидела, задумавшись, и грубый резец горьких размышлений углублял бесчисленные овраги и овражки морщин. Впалые щеки делали ее лицо особенно уставшим и одиноким.
Читать дальше