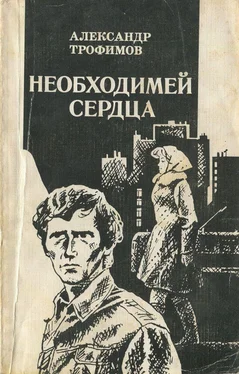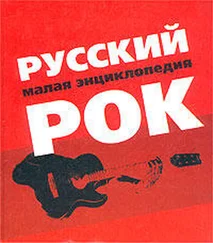Ей было удивительно, что на эти лоскутки бумаги можно купить и хлеб, и масло, и чай, и крупу, и песок — множество необходимостей. И воздух был праздничным для нее в этот день.
Сахар давно уже вышел, но Настасья Ивановна не ходила за ним, боясь простудиться. Гриппу ведь все равно, кого мучить — здорового или измученного хворью. Купить предстояло многое, и Настасья Ивановна даже не хотела об этом думать — слишком обременяли подобные мысли и могли испортить сегодняшний день. Об одной только покупке думала мать долго — тетради! Белые, чистые, нежные, они словно уже лежали у нее на ладошке. Ах, эти тетради — тетрадочки: бумага была глянцевая, скользкая как лед, она будто подталкивала авторучку к концу предложения. Время от времени мать поверяла бумаге свои мысли, выражая в неповоротливых словах усталую душу.
От думы про тетради лицо ее осветило подобие улыбки.
Собираясь в магазин, она проверила пальцем, а не глазами — им уже не доверяла — горлышки старых молочных бутылок и ужаснулась: одно горлышко было сколото. Маленькая щербинка отозвалась в матери страданием — точно кто-то острой ниткой обвязал сердце. А горлышки бутылок она проверяла всегда.
— Так и знала, — удрученно вздохнула она, — надо было в пакетах молоко покупать.
Но пакетное молоко она не любила — у него был не тот вкус.
Прислушавшись, она включила радио погромче — началась передача «В рабочий полдень». Она ждала свою любимую песню «Поговори со мною, мама».
Еще она любила песню «На Мамаевом кургане тишина». То была песня прямо про нее. И хотелось порой поехать на этот самый Мамаев курган, да боялась сильно заболеть в дороге — и не без оснований. Горе заливало ее, когда она слушала эту песню, но ей хотелось слушать еще и еще.
Радио говорило в ее комнате не переставая, чуть растворяя своим тихим голосом ее твердое одиночество. Громко Настасья Ивановна радио не включала, боясь потревожить соседей. Но когда по радио звучала необходимая ей песня, она давала голосу певицы полную волю.
Любимой песни не прозвучало. Дикторша весело объявила, что передача окончилась, и пригласила писать письма по известному адресу.
Пустота воцарилась в эфире и в материнском сердце. И тут же Настасья Ивановна забыла, что у нее есть радио.
Она начала собираться.
На голове у нее и днем и ночью был штапельный платок — на него она накинула другой и поверх — зажившуюся, с островками штопки черную шаль, верой и правдой служившую не один десяток лет. На ноги — валенки, их уже и подшивать никто не брался. Она и дома ходила часто в них, оберегаясь холода, — недаром старики говорят, что смерть через ноги приходит. Только уж совсем древними они стали: выйди в них на улицу без калош — порвутся вмиг. От долгого напряжения руки стали дрожать, и Настасья Ивановна села у батареи перевести дух, прислушиваясь к звону в ушах. Гармонь батареи была длинной и широкой и, главное, очень жаркой. Тепло ласкало старую женщину, точно ждало, кому бы себя передать. Мать любила отдыхать на маленькой скамеечке, продев между горячими столбами батареи жадные до тепла стариковские ладони. Так она просидела с полчаса во всей одежде — копила в себе заряд энергии и воли. Она очень боялась простудиться — ходить за ней дома бескорыстно было некому. А сыра земля поджидала ее. Но мать старалась не думать о ненасытной.
Особенно трудно было, надев пальто, застегнуть воротник на крючок, оберегая выморщенную шею. Настасья Ивановна со страхом заметила, что пальто стало ей великовато, — сжималось, хоть и сопротивляясь, тело под беспощадным давлением времени. Скрюченные пальцы долго не могли поймать скользкую петлю, и Настасья Ивановна чуть не плакала от бессилья. Наконец крючок сжалился — не выскользнул из петли.
Подождав, пока сердце уляжется от трудной работы, Настасья Ивановна вышла на улицу.
Словно пожалев старого человека, ветер улетел с улицы. Падали редкие снежинки, одна из них попала на веко Настасьи Ивановны, и она, освободив от двух надетых друг на друга варежек левую руку, провела по глазу пальцем, избавляясь от снежной слезинки. На улице было много режущего глаза света, сугробы сияли, точно обсыпанные мелким-мелким стеклом. Деревья не казались мертвыми, как вчера, — в ветвях затаилось выражение какой-то непонятной мысли. Однообразный скрип снега под калошами навевал покой. Радовало, что ноги не скользили по исчезнувшему под ночным снегом предательскому льду и идти можно было безбоязненно и не содрогаться внутренне при каждом мало-мальски неосторожном шаге. И дома в этот солнечный зимний день будто бы улыбались.
Читать дальше