Важно другое — море и птицы. Каждой осенью южный ветер приносил в наши края истощенных чаек; люди глядели на них — и создалось впечатление, что мир не кончается на наших горах, что он стелется вдаль, словно сон. Помнится, еще в школе мы, облепив окна, глазели на странных, усталых птиц, дремлющих на площади. Мы кормили их кукурузной кашей, но чаще всего у них даже не хватало сил ее проглотить. Они ничего у нас не брали, ни воды, ни корма, просто сидели, копя силы, а ночью исчезали. Улетали своей дорогой.
Правда, не все. Самые слабые оставались, и тогда мы могли с ними делать все, что взбредет в голову. Исподволь это вошло у нас в привычку. Мы ждали, пока птицы не околеют, тогда учителя вспарывали им животы и показывали, что внутри. Там была уйма интересных вещей: останки рыб, малюсенькие моллюски, какие-то рачки, водоросли, то да се. «Это водные птицы, — говорила учительница. — Им пришлось проделать долгий путь, прежде чем они попали к нам». И хотя после третьего закона термодинамики учительница сошла с ума и повесилась и это автоматически опровергло многое из того, чему она нас учила, нам всегда казалось: быть может, море где-то и есть, только чтоб до него добраться, нужны крылья, а возможно, в пути и погибнешь, как чайка. Поэтому мы не забивали себе голову и никогда это не обсуждали. Мы просто ползли по жизни, будто на четвереньках: понимали, что некоторые вещи есть, ничего не попишешь, но никогда не пытались их себе представить или приручить сердцем. Как вдруг являются какие-то цыгане с жидами и пытаются вывести нас из равновесия…
Но они своего достигли. Зернышки, рассыпанные пришельцами, проросли в наших сердцах тоской, и вскоре не было и дня, когда бы мы не думали, что море так близко, всего сто километров, что бы это ни значило. Мы доили своих коз и стригли овец, как вдруг нас охватывало чувство, что оно достижимо. Всего сто километров, что бы это ни значило… Это же, черт возьми, измеримо, а если измеримо, то и достижимо.
Однажды мы не выдержали, собрались все вместе, около тридцати мужиков, и спустились с гор. Четыре часа в битком набитом автобусе с немытой деревенщиной, землистые лица которой навевали мысль о кладбище, воняющей сигаретным дымом, с кудахтающими курицами в корзинках. Люди в принципе хорошие, все христиане, распоясывающиеся только, когда начинают желтеть их гнилые зубы; они выспрашивали у нас самые разные вещи и делились бурдюками с вином. Когда путешествие уже близилось к завершению, мы, знатно нарезавшись, дрыхли как хорьки или суслики…
Что же мы увидели, вытряхнувшись из тарахтящего автобуса с похмельными головами, — мы увидели край, или страну, пока еще безымянную, меланхоличную и таинственно нежную страну, освещенную солнцем. Мы сидели на пыльном придорожном лугу и просто глядели по сторонам. Деревьям, казалось, тесно в своей шкуре — они метались в послеполуденном ветре. Перезрелые фрукты, головокружительный запах эвкалиптов, мгновения, до смешного похожие одно на другое, так что все вместе казались какой-то длиннотой. Голоса, чересчур грубые для такой нежной сиесты, усыпляющее жужжание мух, едва ощутимый запах дерьма.
Мысли — неважные, бесцельные, краткие, никуда, ритмичными волнами. Глупые. Тоже.
Спустя какое-то время, когда первые впечатления немного улеглись, мы поднялись и пошли к морю. Мы ни у кого не спрашивали, где оно. Шли по запаху, по сырой вони, липнущей к ноздрям, хорошо нам знакомой, — ровно так же воняли птицы, залетавшие в наши края.
Необъятной шири корыто! Сияющее на солнце огромное зеркало, отражающее жидкие белые облачка и чаек на голубом дне — и впрямь величественное, но не совсем то, чего мы ожидали. Ни малейшего признака драмы. Оно разлеглось там, оцепенелое, сонное, слишком апатичное на наш вкус. В отличие от трепетного напряжения наших гор, море было равнодушным, словно ничто ему не было важно. Нас с отчаянья охватила злость. Столько надежд, упований, столько волнения — и ни капельки радости…
С другой стороны, нас раздражило не только отсутствие развлечений, была задета наша гордость. Нас не предупреждали, что горизонт здесь будет так широк: мир оказался огромен, куда больше, чем мы осмеливались представить. На фоне этого бескрайнего равнодушия мы чувствовали себя мелкими и незначительными. Неважно, где мы были, там или здесь — ничто не имело смысла, мы могли сгнить заживо у себя в горных селах, и никто бы этого не заметил. Наши горы были живыми и тотчас же откликались на зов. Достаточно было громко сказать что-то, и все слово в слово возвращалось нам эхом или даже вызывало обвал. Тут не было эха. Совсем. Как будто мы вдруг оглохли. Весьма прискорбно.
Читать дальше
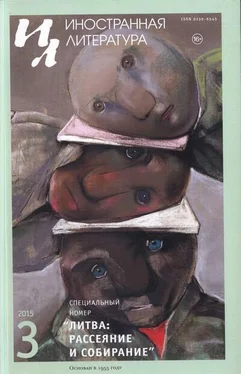






![Юргис Извеков - Битва гигантов [litres самиздат]](/books/437556/yurgis-izvekov-bitva-gigantov-litres-samizdat-thumb.webp)


