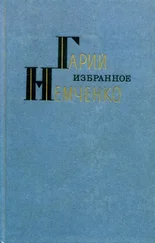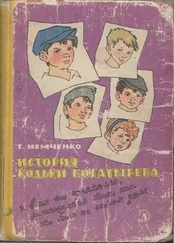И еще тысяча проблем, и маленьких, и больших, а в общей сложности настолько запутанных, что в конце концов уже и не знаешь, что проще: или все-таки этот цех как-нибудь достраивать, или начать новый?
А потом будут и бессонные ночи, и споры до хрипоты, и чье-нибудь дерзкое, на свой страх и риск, решение, и сверхурочные, и аккорды, и лозунги, и «молнии» с чьими-то вчера еще мало кому известными фамилиями, и будет работа, работа, работа, работа, работа, работа.
И все каким-то чудом рассосется, развяжется, утрясется, уладится, как уже не раз случалось до этого.
А потом будет металл. И будет праздник. И будет минута, когда вдруг с удивлением оглянешься на дымы над заводом и вдруг подумаешь: ай да мы! А ведь это мы, братцы!
Когда ты тут чуть не с первой палатки, и чуть не каждого не только в лицо, но и по имени, и того же начальника «Металлургмонтажа» Шумаченко знаешь еще с тех времен, когда он слесарил в бригаде у Пароконного да только агитировал того поступать на заочное, а Всеславский тогда только что приехал с новеньким «поплавком», а Эдик Агафонов попал к нему уже после, когда проходил у нас практику, и все мы были тогда еще молодые, неженатые, и очень хотели горы своротить, и гордились, что выпало нам строить этот крупнейший, как нам тогда говорили, в мире завод — самый современный, с самой передовой технологией…
И вот он уже стоит, этот гигантский завод, а мы все строим и строим дальше, и то, что раньше было теорией — в газетах когда-то писали, можно, мол, всю жизнь провести на этой стройке, — для некоторых уже становится реальностью.
Может, не очень понятно, что я всем этим хочу, но, знаете, бывают такие моменты, когда тебе хочется все припомнить, чтобы кое в чем оправдать себя, а кое в чем поддержать — никуда ты от этого не денешься, у всех у нас бывают минуты грустных размышлений.
И еще я хочу сказать, что если этот наш завод вышел не совсем такой, как хотелось бы, что не все у нас было по-человечески, то не одни мы в этом виноваты — разве мы сами не хотели бы работать умом да ладом, да с умным планом, да с четким снабжением, а не так, как приходится — по-партизански, рывком, нахрапом?
Скажете: вот взялся. Больше не буду.
Просто я хотел сказать, что у нас на Авдеевской наступил тогда разворот, наступило то самое горячее время, когда пора принимать строгие решения…
На стройку приехали два замминистра — строительства и черной металлургии. Несколько дней разбирались с положением дел, а потом собрали совещание, на котором неизвестно кого было больше: то ли наших, авдеевских, а то ли начальства из Сталегорска да руководства из области.
Сперва короткий, но злой доклад сделал начальник комплекса, его дополнил генподрядчик, а потом наступила эта предгрозовая тишина ответственных совещаний, которую на секунду разделил размеренный, почти гипнотический голос замминистра строительства:
— Кто, товарищи, выступит?
Видели бы вы последние наши рапорта на комплексе! Только и того, что начальники управлений да их главные не раскрашивали себе лица какой-нибудь военные действия обозначающей краскою — все остальное было… А здесь сидели тихо, никто в драку не лез, все пока ждали, как оно дальше пойдет да чем обернется.
Тут-то и поднял руку наш Травушкин.
Директор завода, сидевший в президиуме, явно поморщился, и разом поскучнели лица у управляющих трестами. Замминистра наклонился к начальнику комплекса, и тот негромко сказал:
— Травушкин, куратор заказчика.
И тот плавно повел рукою, словно отделяя старика от остальных:
— Прошу вас, товарищ Травушкин.
За несколько дней перед этим та самая статья Травушкина, которую он сочинил лежа в больнице, появилась в нашей «Новостройке». Газетенка эта — под стать всей Авдеевской площадке — тоже, надо сказать, партизанская, еще с тех пор, как редактором в ней был тот самый Нестеров, который сидит теперь дома да книжки про нас пишет, нет-нет да и появлялось в ней что-либо такое — о мировых проблемах… Так и тут.
Статья называлась «Первооснова», и нетрудно догадаться, что речь в ней шла о труде, и размышления свои Травушкин начинал, надо полагать, со времен Киевской Руси и рассуждал, опять же, о татарском иге, о его пагубных последствиях, потому-то, мол, и пришлось крестьян в России закрепощать, чтобы заставить работать. Где-то между строчек было, что Травушкин и многое другое объясняет проблемами больше всего экономическими, и вообще он как-то так: великие, мол, беды были с нами и еще быть могут, если не научимся, наконец, работать как следует. И сейчас, мол, самая пора этим заняться: на ноги мы уже стали крепко, тут-то и можно позволить себе оглянуться на то, что и как нами сделано, и хорошенько, не торопясь, подумать, как жить дальше. Нынче это, мол, важно как никогда, если соперничество между Россией да Америкой переходит все больше на мирные рельсы, если все будет решать труд, и только труд… И дальше он все о трудовом воспитании, о том, что заниматься им надо уже с пеленок. Некоторые, говорит, молодые мамы собирают ребенка в ясли и приговаривают при этом: и Коленька, мол, наш тоже на работу! А подумала мама перед этим: нравится сынку в яслях? Хорошо ли? Если ребенок уже привык, идет с радостью, и ясли хорошие, тогда припевайте ему, говорит, это, насчет работы, пожалуйста. А если он, как часто бывает, с неохотою туда идет или с плачем, воздержитесь, мол, о работе упоминать, не надо, чтобы у ребенка при этом слове не возникали потом отрицательные эмоции. Наши, мол, младшие школьники на уроках труда клеят из картона всякие финтифлюшки, а потом уносят домой, чтобы мама с папой полюбовались. А не привыкнут ли они так постепенно к тому, что плоды своего труда надо всегда нести домой. Не будут ли то же самое проделывать, когда вырастут да пойдут на завод?
Читать дальше