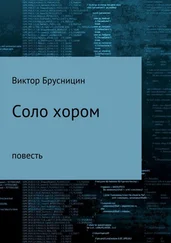И, конечно, ночи. Соберите всех писателей и художников мира и… ни черта не получите. Ночи бесчеловечны, потому что хочется выть и молчать. Впрочем, петь и смяться тож. Не терпится жить всегда… И комар-то тебе мертв, и прохлада рожу ополаскивает. Смерть, какая жизнь. И луна в полглаза, и стоишь акелаподобный.
А утро. Сидящие на воде чайки, неподвижные, словно манки. Неназойливо тащит зефир. Оскорбительно убедительные, будто кулак в нос, облачка в чугунной синеве. Щемящая свежесть, теплое мерцание мелких рябоватых плешин, и исполинское ощущение свободы и жизни. Каждый жест ленив и прелестен, ждешь несбыточного.
Море имеет настояние ударять в сравнения… Сопоставим, скажем, лес. Невольно вспоминается геометрия зрячего и отсюда маломерного пространства, где ходки напоминания жизни: комары ленивые и пьяные от голода, их щелкаешь с унылым сладострастием, равномерное дыхание собаки, словно вжиканье двуручной пилы. Где-то в иных измерениях лиловая мазня облаков… И особенно шумы. То отдельные партии — цокот, художественный свист, рапсодия лесных обитателей (кукушка, подруга, несет чушь), то пошла ширина и прочие размеры и заволновалась природа; остальное мягко ложится, выжидает, сопротивляется приятной угрозой — вплетаются мелкие, но живые противоречия очарованных существ.
А море иначе. Курлычет, шелестит, произносит — умертвляет уши. Вечность настояна в звуках, шелестит разговор таинств, грозит язык неумеренных и сверхъестественных сил, настойчивым шепотом дают о себе знать неизведанные грани жизни.
Другое дело, иногда накатит следующее. Отсутствуют строения, растительность — море по большому счету горизонтально, двухмерно, сокращается выбор. С этой точки зрения вблизи берега товарищ интересней. Однако как раз в точке зрения и штука. Она микроскопична и, стало быть, кукишеобразна.
Тем временем затяжной дождь — вот цимес. Кропит нудно, досадливо, пологие, пассивные волны испещрены мелкими мишенями. Горизонт смыт, шибкие тучи размыты, небо свисает недалече прокисшим творогом, растворяется в смиренной, тучной малахитовой туше. Угрюмо бурчит мотор, такелаж неряшливо собран. Дождь не обуздывает, но усмиряет, ополаживает, обезличивает, ход мыслей соразмерен. В кают-компанию — кофе дуется со смачным хлюпаньем. И болтовня — отчаянные мысли выглядывают в такие часы.
Заливает Егор:
— Проституция всех видов и воровство — следствие войн и революций. Я, конечно, проституток люблю, ибо вполне христианское призвание. Но не всех видов… Вот Ленина все мочат. С кого пошло? Да с Ельцина — ой как проституцию-то мужик, да самых неприглядных образцов, развил. А вы возьмите и поставьте рядом две эти фигуры. И все, картина станет полностью ясна… И вообще, цивилизация и нравственность несовместимы, ибо прогресс насаждает знание и показывает самый широкий спектр человеческих проявлений. Бессмысленной становится любая единица и, значит, нравственность. Получив право, добыв возможность, обретя свободу, человек становится циничным. Пример — российская элита, верхи. Когда первые лица делают заявление и ничего не происходит — это цинизм высшей марки… Революция, которую устроил тупой и тщеславный и, значит, брутальный Ельцин, в окрестности цивилизованной состоятельности вызывает естественное сопротивление, и когда стало ясно, что беспомощность всплыла во всей великолепной красе, нужен наместник, долженствующий оградить от возмездия… Кого выбирать в таких обстоятельствах? Понятно, человека, который контактен, иначе взять, обучен саморекламе и, главное, уперт в самосохранение. Следственно, будьте добры пожаловать — кэгэбист. Где еще учат именно этому, где развивается функциональность до инстинкта — стало быть, отсутствуют нравственные ингредиенты, и народ — до фени…
И в том же духе. В итоге сообщал:
— Французы галантны, оттого что их женщины… м-м… непривлекательны. Так сказать, компенсация.
Никто не улавливал смычки, но, купленные на «непривлекательны», соглашались сопя, кивая, шмыгая носом, молча. Впрочем, Володя не оставался бездушен:
— Ты становишься брюзглив — это признак.
Вообще говоря, доводились ситуации изрядные. В Индийском океане раз вляпались в сносный шторм. Этак баллов семь. Егор позже вспомнил, как юношей первый раз попал в Русский музей и его раздавил «Девятый вал» Айвазовского. Это грандиозное сияние, величественность океана ахнули, попав, вероятно, в нужном ракурсе на паренька. Никогда более Егор не получал такого впечатления от живописи. А воочию ничего подобного. Море чарующе враждебно, в драном, патлатом небе ярятся редкие сполохи, и тут же набычившиеся гребни волн умываются кровью, уже шальные кляксы бирюзы кажутся неуместными. Первобытная громада стихии в эти минуты особенно доходчива. Коверкающиеся каскады бурунов осатанело произвольны, волны грызутся, ухают, сцепляются остервенело друг с другом, извергая фейерверки брызг, в лицо роется нервная пена. Ветер прерывистый, хлещет, словно пощечинами. Волглость непомерная, все набухает, тяжелеет, трудно дышать. Сердце троит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу