– Кулинич скоро улетает в Анталию… Ты приедешь ко мне в Мамонтовку? Я скучаю без тебя…
– Я приеду…
Он, как и в прошлый раз, проводил ее до того же лифта. И они снова проехали свои этажи. То нежные, то алчные поцелуи и объятья отрешали их от этого мира. До тех пор, пока и сверху и снизу не стали раздаваться возмущенные мужские и женские голоса.
Вернувшись в лабораторию, Гаевский долго сидел перед компьютером с закрытыми глазами, возвращаясь в сладкий плен поцелуев и рук Натальи. Его ладони все еще скользили по ее роскошному, мелко дрожащему телу, его губы все еще смаковали чудодейственный бальзам ее теплых и податливых губ, его плечи все еще чувствовали жадную и колючую напористость ее тонких пальцев, его уши все еще слышали ее тихий, но горячий и нежный стон, сводивший его с ума…
Гаевский даже замычал от наслаждения.
– Артем Палыч, вам плохо? – вдруг услышал он тревожный голос Таманцева.
– Нет-нет, все хорошо… Мне очень даже хорошо, – ответил Гаевский, открыв глаза.
* * *
Перед поездкой в Мамонтовку он достал с пыльных домашних антресолей большую холщевую сумку с мольбертом и деревянной рамкой, в которую давным-давно был уже заправлен кусок коричневатой ткани, похожей на мешковину. Там же, на антресолях, еще с весны пылилась почти готовая его картина – «Женщина, читающая книгу на солнце».
Гаевский задумчивым взглядом скользнул по облупленной местами до кирпичной кладки белой чаше заброшенного фонтана, по медной россыпи прошлогодних листьев, по женской фигуре на серой скамейке, по веткам дерева с едва набухшими почками (эти почки были его выдумкой). Причем, судя по толщине веток, дерево было старым, а одна ветка, уже явно засохшая и наполовину сломанная, дала у самого своего основания неожиданный росток. Все это, конечно, Гаевский придумал, – он же считал себя в каком-то смысле символистом. Зеленый росток на старой ветке отражал состояние его влюбленной души.
– Эротично, – сказала Людмила, когда он еще весной показал ей эту картину, нарисованную по памяти, – солнце вот на этой полуголой ляжке дамы красиво лежит.
Кисти и краски были старыми и засохшими, Гаевский купил новые. Его сборам «на природу» Людмила не удивилась, ничего ее не насторожило. Но один возможный момент в этой ситуации беспокоил его, – а вдруг и жена захочет с ним поехать за город? И он выбросил на всякий случай фальшивую приманку, дабы обезопасить себя от подозрений Людмилы:
– Может, и ты?..
– Нет-нет, как-нибудь в другой раз, – решительно отвергла она его предложение, – у меня работы выше крыши… Мне и на кафедру, и в библиотеку надо. А вечером еще и консультация для студиозов… Ты поезжай, поезжай… тебе отдохнуть надо. Да и Полина вроде сегодня-завтра должна приехать…
Она уже давно привыкла к этим его (хотя и нечастым) ностальгическим приступам, когда он рвался то на Крылатские холмы к зарослям сирени у старой церкви или на природу за город – с красками, кистями и холстами. Она никогда этому не противилась. А порою летом или в теплые осенние дни все же выбиралась вместе с ним, садилась в соломенной шляпке рядом на раскладной стульчик и наслаждалась каким-нибудь не читанными еще эмигрантскими литературными мемуарами или же свежим сборником стихов, подчеркивая красной авторучкой абзацы и строки. Однажды она почему-то расхохоталась и воскликнула:
– Тема, Тема, ты послушай, что этот великий Еся Бродский написал! И она стала с наслаждением читать:
Теперь сентябрь. Передо мною – сад.
Далекий гром закладывает уши.
В густой листве налившиеся груши
Как мужеские признаки висят.
– Как образно! Как емко! Как точно! – ну правда же, Тема! Вот у кого тебе надо учиться поэзии!.. «Как мужеские признаки висят»…
Услышав это, он тогда даже перестал рисовать багряный клен, кланяющийся обломкам ржавой оградки вокруг заброшенной могилы, – обернулся и посмотрел на Людмилу, в веселых глазах которой поблескивало давно не замечаемое им лукавство. Заметив его удивленный взгляд, она игриво ухмыльнулась и продолжила:
– Ну правда же, Тема, мужская мошонка на грушу похожа!
И она рассмеялась – рассмеялась тем задорным женским смехом со странным намеком внутри, которого он тоже давно не слышал.
– Да, в каком-то смысле похожа, – ответил тогда он, – но твой Еся все же наврал… Ну не может «далекий гром» закладывать человеку уши… Не мо-жет.
Через год или полтора он будет вспоминать и эти строки из Бродского, и этот задорный, двухслойный смех Людмилы, укоряя себя за то, что уже тогда не придал значения этим деталям, которые, как потом оказалось, отражали перемены в ее другой, тайной жизни…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Виктор Баранец Офицерский крест [Служба и любовь полковника Генштаба] [litres] обложка книги](/books/393850/viktor-baranec-oficerskij-krest-sluzhba-i-lyubov-p-cover.webp)





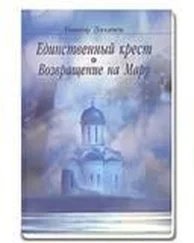
![Лара Темпл - Последняя любовь лорда Стентона [litres]](/books/385251/lara-templ-poslednyaya-lyubov-lorda-stentona-litres-thumb.webp)




