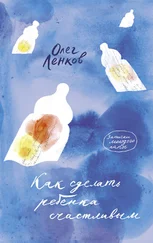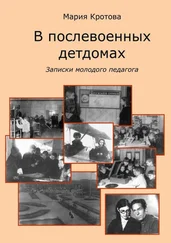— Сиди спокойно. Свалимся мы сейчас с тобой оба…
А шоссе уходит вверх, уже Пулково. Отец тяжело дышит, потому что трудно въезжать на такую гору вдвоем. Розовые кирпичные развалины лежат справа — нет ни одного целого кирпичика, ни одного целого куска штукатурки на этих стенах, которые раньше были домами, и там жили люди, а теперь вот остались лишь груды мусора, все иссечено взрывами, и проемы в стенах не там, где должны бы быть окна и двери, а там, где попал снаряд или вот рядом взорвалась бомба. Наверху отец останавливается, мы отдыхаем. Я тоже устал сидеть на своей подушке. Ржавое, мятое железо валяется вдоль шоссе и в ямах на поле. Я отхожу в сторону: хорошо бы найти патрон или артиллерийский порох, длинные макаронины. Но здесь ничего нет. Уже все подобрано. Только колеса, рамы, большие снарядные гильзы лежат в воронках.
— Не ходи, там могут быть мины! — говорит отец.
Потом мы едем дальше. И теперь уже слева какие-то люди строят дом. Они носят кирпичи, все одеты во что-то серо-зеленое, странные шапочки у них на голове. Когда мы подъезжаем, они все глядят на нас, а некоторые даже бросают работу. В чем дело? Редко, что ли, ездят машины на этом шоссе? Редко ходят здесь люди? Потом я вижу вдруг часового с винтовкой в руках и понимаю: это, наверное, немцы. Отец говорит:
— Вот, видишь, — немцы…
Я оборачиваюсь. Гляжу назад. Мне хочется глядеть и глядеть туда. Какие они — эти немцы? Так вот они — немцы. Это они воевали с нами. Вроде обычные люди. Только со странными шапочками. А так, видно, ходят, даже веселые, что-то говорят и смотрят на нас, и тоже, наверное, говорят про нас друг другу. А вон тот слева за домом, кажется, машет рукой. Чего же он машет? Он же фашист. Они немцы. Он фриц. Чего он смотрит на нас? Мы воевали с ними. Он пленный…
Я гляжу, но уже не хочу, чтобы они видели, как я гляжу, и отодвигаюсь, прячусь за руки отца, но мы уже отъехали так далеко, что совсем стало не видно. Так вот они — немцы…
Такое было у меня любопытство к ним, когда я впервые увидел живых пленных — любопытство, отчуждение, острый интерес, какая-то неловкость. Такая же неловкость была у меня перед свастикой. «Фашистский знак» — называли мы это и, чтобы обидеть товарища, ляпали ему эти знаки, большие и малые, на тетради, на лист бумаги, на котором он пишет, на книги, на портфель, на одежду — мелом, и даже на руки — чернилами. Это было тогда наше хулиганство, наше озорство, так же как писать, на стенах КОЛЬКА — ПРЕДАТЕЛЬ или МИША + ЛИЛЯ = ЛЮБОВЬ, и дело иногда доходило до драки: сильнее, кажется, нельзя было обидеть мальчишку. Но я не мог заниматься такими делами. Мне было неловко вообще рисовать такие вещи: четыре крючка сцепились своими концами и, выпрямившись, выставили наружу острые углы. Самое слово тоже было какое-то странное, злое: свастика. Я старался даже не говорить его. За этим стояли война, снова фашисты и — смерть?..
Вечером мы возвращаемся в город. Лопаты привязаны к раме. Я опять сижу у руля и хочу спать от усталости. Велосипед мягко падает вниз по шоссе — мы едем с горы. Город внизу дымится — темный, с иглами труб и отблесками соборов, с большими и маленькими своими огнями. Я гляжу, у меня глаза слипаются, потому что я хочу спать. Больше мне ничего не надо, только спать. И я не думаю сейчас ни о немцах, ни о чем, вообще ничего больше не думаю. Разве что: когда же мы наконец приедем?..
Усталость за день была во мне — и тишина. Это был мир. Тишина была и над городом, куда мы сейчас ехали. Война кончилась.
— Ты Володю помнишь? — будет спрашивать потом мать.
— Какого Володю?
— Во время войны, дядю Володю.
— Нет.
— Ну-у… Помнишь, он еще стрелял в крысу.
— А, помню, — скажет он, и действительно, уже видит перед собой крысу, которая прыгает по земле с мышеловкой, и все смеются, а потом теплые гильзы дымятся у него на ладони: моряк-офицер, который ему их дал, — дядя Володя. Ни лица, ни голоса — даже цвета волос он не помнит.
— Ты жил тогда в его комнате три месяца.
— Ага.
— А Доду ты помнишь?
— Танкиста?
— Да. Он тебе приносил кисель в котелке.
Он знает, что Дода танкист, потому что мать уже не раз говорила про это раньше, когда вот так вспоминала и рассказывала то, что было, и этот Дода погиб, только он его совсем не помнит.
— Он погиб потом. Сначала его ранило в ногу, но он поправился, и его опять взяли в танк. А потом их сожгли, уже когда наши начали наступать. Смешной такой был еврей… А Юру помнишь?
— Нет.
— Ничего ты не помнишь, я вижу. Он тебе свой китель отдал, и мы потом с бабушкой его на тебя перешили.
Читать дальше
![Генрих Шеф Записки совсем молодого инженера [Повести и рассказы] обложка книги](/books/393240/genrih-shef-zapiski-sovsem-molodogo-inzhenera-poves-cover.webp)