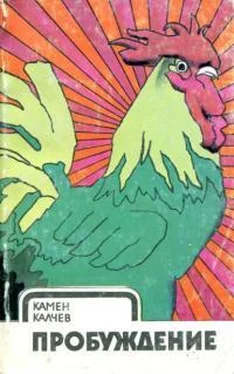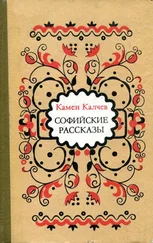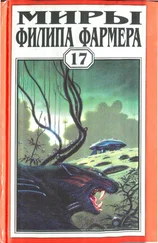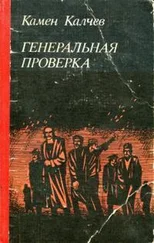— Митьо! Это ты, Митьо?
— Я, отец. Где ты?
— Здесь, Митьо, в кухне. Да иди же сюда!
Димитр быстро спустился обратно по ступенькам, застегивая на ходу куртку: отец любил подтянутых людей — застегнутых на все пуговицы и с белым подворотничком, как у солдат. У Чукурлиевых все должно было быть образцовым.
Старик лежал под тонким шерстяным одеялом. Увидев сына, попытался встать.
— Лежи, отец, лежи. Не вставай.
— Надоело… Ну, как все прошло? Похоронили?
— Похоронили, отец, на хорошем месте похоронили. Всё было, как надо. И речи, и венки от борцов-антифашистов… Всё.
— Эх, жалко, я не мог прийти… Да и как пойдешь, когда голова кружится… А как встану, все начинает ходить ходуном, падаю… Плохо дело.
— Ничего, отец, ничего! И без тебя похоронили тетю Марию. Знаешь, она ведь была не из придирчивых.
Железнодорожник огляделся. Кухонька закопченная, подзапущенная. Над телевизором среди семейных фотографий уже висит тетин некролог. В изголовье больного стоит бутылка с водой и пузырьки с таблетками. Железнодорожник осматривал обстановку, в которой жил отец, и его начинали терзать угрызения совести. Он прицокивал языком и бубнил что-то себе под нос, но старик был глуховат и не понимал, почему это он прицокивает и бормочет. Услыхал только вопрос сына:
— Эти исподники, отец, когда в последний раз стирались?
Он имел в виду кальсоны Стефана Чукурлиева, доходившие ему до лодыжек, завязанные внизу веревочками, похожими на мышиные хвосты.
— Какие исподники? — переспросил отец, протягивая руку за бутылкой с водой. — О каких исподниках ты говоришь?
— О твоих, отец… Когда, спрашиваю, ты в последний раз их стирал?
— Откуда же мне помнить… Ежели Марийка меня обстирает, хожу чистый… Ежели нет — больше некому за мной присмотреть…
— Нехорошо так, отец! Надо соблюдать гигиену.
— Нехорошо… А что поделаешь? С этой больницей, которую начали строить, совсем обо мне забыли… Исподники я могу и сам выстирать… Исподники я никому стирать не дам… Неудобно… Сам стираю… А вот все остальное, ну там рубашки, — это уже выстирать некому…
Железнодорожник помог отцу снова лечь. Все так же прицокивая, он укрыл его одеялом и покачал головой:
— Так дальше не пойдет… Я уже вышел на пенсию… Ты понял?
— Правда? Когда успел? Ведь ты еще молодой.
— Нас, железнодорожников, отправляют на пенсию раньше… К тому же я тоже активный борец против фашизма…
— Ну и что ты теперь делать будешь?
— Как это что?
— Не будешь ли где работать? Ты еще молод. Можешь заработать еще одну пенсию… А сложа руки сидеть не годится.
— Все это верно, отец, но закон не разрешает.
— А прохлаждаться разрешает… Так, что ли?
— Да это кто как устроится.
Помолчали. Со двора доносился гомон домашней птицы. Старик вдруг прислушался.
— Проголодались. Люди наелись, а им с утра не дали ни зернышка…
— Давай я их покормлю, отец, — предложил сын. — Где у тебя зерно? Под лавкой?
— Как же ты их накормишь, пенсионер, — усмехнулся старик, — ведь закон тебе не разрешает?
— Тебе, отец, скоро сто лет стукнет, а все поддевки да подначки. Лучше скажи, где кадушка с сорняками. Чистого зерна я им не дам. Пусть сами покопаются на стерне! Избаловал ты их.
Старик приподнялся и указал на кровать, где спрятал кадушку с приготовленной для птиц смесью семян. Димитр вытащил ее на середину кухни, зачерпнул горсть, чтобы убедиться, что пшеницы здесь нет, и, увидев, что все в порядке, подхватил кадушку одной рукой и быстро вышел во двор. Старик озабоченно вслушивался в квохтанье и хлопанье крыльев своих пернатых любимцев. Ему было приятно, что сейчас они набьют себе зобы.
— Замешай и отрубей для поросенка! — крикнул он, глядя в открытое окно. — Слышишь, как хрюкает и визжит!
В этот день железнодорожник сделал большое дело: накормил всю живность, почистил у поросенка, вымел мусор из собачьей конуры, принес воды, повесил над костром за оградой большой закопченный котел и подогрел воду для стирки. Когда вернулась Еленка, досыта наговорившись с сельскими женщинами, вода уже кипела, и рядом стояло деревянное корыто.
— Давай-ка, Еленка, выстирай отцовские исподники, а то он уже весь пропах, стыдно… А то как чем-нибудь загрузиться отсюда, так это мы пожалуйста, а как помочь — так и не догадаемся… Давай, пока еще припекает, чтобы успели высохнуть.
Еленка поморщилась, но слово железнодорожника было в семье законом. И хотя после сытного обеда, с кутьей и разными другими вкусными блюдами, было не так-то просто согнуться, Еленка засучила рукава, надела старый фартук, оставшийся еще от покойной свекрови, и уселась на стульчике у корыта.
Читать дальше