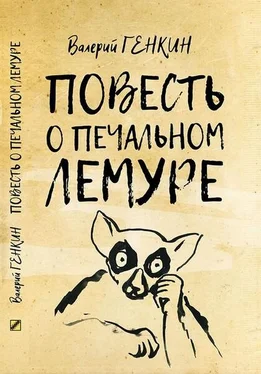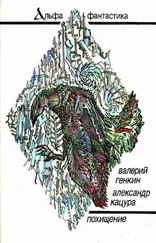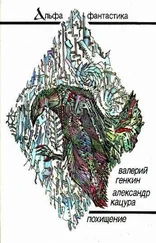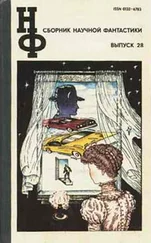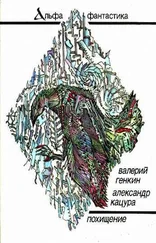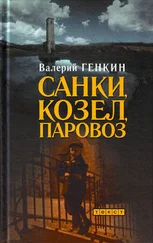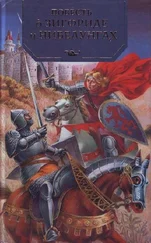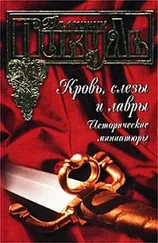Come prima, più di prima t’amerò,
Per la vita, la mia vita ti darò… —
сообщая таким образом, что любит эту восхитительную женщину еще сильнее прежнего и намерен сохранить это чувство на всю жизнь, каковую и преподнести ей в дар.
И — да, да, как и было задумано — они отправились к березе. Она лежала, чуть подрагивая на легком ветре — чем она там могла подрагивать? Пальцами? Ресницами? Короче, подрагивала. И укоризненно молчала всем видавшим виды тяжелым телом.
ВИ завел пилу и принялся срезать ветви потолще, Миша орудовал топором, и через полчаса хорошо отредактированная береза превратилась в относительно ровный ствол. Теперь уже ничего не подрагивало. Подошла Елена Ивановна, и они втроем принялись стаскивать спиленное и срубленное в огромную кучу. Оставалось нарезать ствол на чурбаки — и Виталию Иосифовичу будет чем разминаться по утрам, раскалывая их на пригодные к топке поленца. Но — не сегодня, позже, позже, за пределами этого дня, да и этой книги.
Книги — они-то, видать, и повинны
во многом, чего добился — и, главное, чего не смог добиться — Виталий Иосифович. Он научился читать года в четыре с месяцами, и на многие годы определил (испортил) свою судьбу, нырнув в мир выдуманный и отказываясь погрузиться в настоящий. Подростком восхищался другим книгочеем — Бенджамином Франклином: тому всепоглощающая страсть к чтению не только помогла найти свое место — и какое! — в реальном мире, но и немало сделать для его, мира, изменения к лучшему. Да и как тут не восхититься! Пятнадцатый ребенок в нищей семье — отец варит мыло и лепит свечи. Денег на школу нет, всему учится сам, с двенадцати лет на хлеб зарабатывает подмастерьем в типографии (вокруг вожделенные книги, купить-то денег нет, а тут — читай не хочу), а в двадцать с небольшим у него уже своя типография, своя газета. Философ, никогда не рвавшийся к власти, единственный из отцов-основателей подписавший все три документа, сделавших Америку — Америкой: Декларацию независимости, Конституцию и Парижский договор, тот самый, по которому Соединенные Штаты (тогда числом тринадцать) получили независимость от британской короны. Ну а в свободное от этих достойных занятий время Бенджамин умудрился придумать бифокальные очки (за что ему отдельное спасибо от четырехглазого Мишки), молниеотвод, стеклянную гармонику, для которой не брезговали сочинять Моцарт и Бетховен, и много чего еще. Он и афоризм придумал, живущий по сю пору: «Время — деньги». Так кто он? Великий политик, украсивший собой доллар? Физик? Изобретатель? Издатель? Писатель? Ах ты, батюшки, да просто дилетант. Они всегда украшали мир — полиматы вроде Леонардо. Вот примерно в одно время с Франклином в Англии жил Уильям Гершель. Тоже из нищей, да еще же еврейской, многодетной семьи и тоже неисправимый дилетант: ну играл бы себе на гобое, сочинял музыку (а он две дюжины симфоний насочинял), так нет, через теорию музыки впал в математику, оттуда — через оптику — в астрономию. Смастерил самый большой для того времени телескоп — и ррраз! — открыл Уран. И много чего еще: например, спутники того же Урна, а заодно и Сатурна и — подумать только — инфракрасное излучение. И включил нашу Солнечную систему в Млечный Путь — раньше-то она была как бы сама по себе, а Галактика — сама. И прожил почти столько же, сколько Франклин, — восемьдесят три года.
Видать, время такое было, универсалов. Ну какой музыкант сейчас попрет в астрономию, какой издатель станет ломать голову над новым типом очков? Правда, уже на излете века дилетатов Джон Филип Суза, король маршей, сочинивший их больше сотни, включая знаменитый Stars and Stripes Forever , и при этом первая скрипка в оркестре Жака Оффенбаха, вдруг взял да и дал имя новому инструменту, сузафону (чем я хуже Сакса с его саксофоном?), здоровенной трубе побольше геликона, которую по его идее воплотил в железо другой композитор — Пеппер, но это уже совсем другая история.
Ох, вымерли дилетанты. Настало время профессионалов. Такое вот суровое время.
преодолевая отвращение к перемещению в пространстве (отвращение к перемещению — фи, будь ВИ редактором этой писанины, вот уж поиздевался бы над автором!), наши новостаросветские помещики, кряхтя и кляня судьбу, паковали зубные щетки, косорыловку и маринованные грибы теличенского производства и садились в самолет Шереметьево имени Пушкина — Хитроу (просто, без имени). Возможно, из отдельных намеков всем уже ясно, что часть семейства Затуловских свистануло в Британию и пустило там корни. И вот, войдя в лондонский дом, освободившись от поклажи и перецеловав дочь, зятя и внуков, Елена Ивановна незамедлительно отправляется в почти единственное место Британской империи, представляющее для нее достаточно ощутимый интерес (в этом смысле она радикально отличается от супруга — для ВИ таких мест в Соединенном Королевстве, да и на земном шаре, опричь деревни Теличено, не существует), — в Kew Gardens , крупнейший (а то и старейший, ему уже за двести пятьдесят лет) в Европе ботанический сад. В Кью, в Кью! Туда устремляется она с энтузиазмом всех трех сестер, бредивших Москвой, и часами, волоча за собой робкого ВИ, который все норовит улизнуть в кофейню или разлечься на останках пробкового дуба, бродит среди бесчисленных чудес флоры, озираясь по сторонам и высматривая какой-нибудь плохо охраняемый стебелек в надежде что-нибудь спереть (слямзить, стырить, свистнуть) для ботанических опытов в «Веселой пиявке». И что вы думаете? За долгие годы такой контрабанды часть этих опытов закончилась оглушительным успехом. Скажем, Saxifraga х apiculata , она же мохоподобная камнеломка, воровато засунутая в пластиковый пакет, а затем в карман и преодолевшая немало миль (если верить гуглу, без малого тысячу семьсот), отделяющих Кью от «Веселой пиявки», благополучно прижилась в Тверской губернии на одной из альпийских горок и радует глаз Виталия Иосифовича, Елены Ивановны и пусть не частых, но всегда дорогих гостей усадьбы Затуловских. «Ну, где тут у вас краденый мох из Лондона?» — спрашивали чуткие гости, понимая, что такой интерес к заморской диковинке хозяйке в радость. А Елена Ивановна с деланым равнодушием подводила их к плоскому камню с нашлепкой из меленьких желтых цветков и небрежно отвечала: «Ах, вы про саксифрагу? Так вот она, вот».
Читать дальше