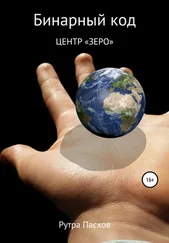Она схватилась за голову. Неужели она вырастила только одних сумасшедших в этой семье? Она топала, прихрамывая вокруг меня, ругалась, затем причитала, потом утешала меня, она бормотала разные приятные слова, просто странно было слышать, как непривычные звуки слетают с ее уст. Но я все равно ее не слушала. Лишь одно слово застряло у меня в ушах, и оно не касалось ни чувств, ни нашего боженьки, это слово было: затычки для ушей. Я тут же понеслась в аптеку. О, какое счастье заткнуть эти две злосчастные дырки, которые постоянно пропускают через себя черт знает что! О, обретенный покой! Бешеное биение моего сердечка мало-помалу затихало, и я наконец вздохнула свободно. Я погрузилась в себя, я сама свернулась в затычку, чтобы этот мир вокруг меня заткнулся навсегда. И слезы неспешными ручейками потекли по моим щекам.
Если б в тот день мне не нужно было идти в лицей, я бы заткнула уши на целый день. Правда, иногда я пыталась оставить затычки для ушей и на уроках. Я объясняла учителям, что бабушка заставляет меня затыкать ватой уши. По взглядам, которые я ловила на себе, я чувствовала, что меня начинают принимать за тронутую дурочку. Я все же старалась. Вытащив из ушей шарики, я нервно крутила их между пальцев, готовая при малейшем жужжании воткнуть их себе в барабанные перепонки. Затычки мои все же сжалились надо мной и пошли на компромисс и оставляли меня в покое на время уроков, так что только благодаря их милости я и смогла продолжать учебу.
Мама покинула нас, покинула наш дом. Нежданно-негаданно. Нежданное вторглось в наш дом в образе мужчины зрелого возраста, с бронзовым загаром, сильным голосом и густыми бровями. Полгода он приходил к нам два раза в неделю и усаживался в гостиной, где чинно беседовал с бабушкой и дедушкой, потягивая отдающую пылью мадеру. Бывало, что, возвращаясь из школы, я заставала дома негаданного ухажера. В один из таких дней он поднялся наверх за мамой, усадил ее на диван, рядом пристроил меня и, прочистив горло, торжественно объявил собравшейся родне, что он собирается взять мамочку в жены и увезти ее к себе на виллу на Лазурный берег, где растут сосны и стрекочут кузнечики. Он сказал, что хочет помочь нам стать опорой для нашей семьи. Он сказал, что знает один солидный уютный дом для престарелых, в котором бабушка и дедушка получат надлежащий медицинский уход и будут избавлены от всяких забот и хлопот. И он сказал, что хочет сделать для меня то, что сделал бы мой отец, будь он жив. Что он купит мне небольшую квартирку, чтобы я могла спокойно закончить свою учебу. Он добавил, что я была очень хорошей девочкой и что теперь я должна подумать о себе. Время от времени он поворачивался к маме и вежливо спрашивал: «Не так ли, Бенедикта?» Мама говорила «да» на каждое предложение. Она обрела дар речи лишь для того, чтобы произносить одно-единственное слово: да. Родные невесты сидели с закрытым ртом. Мы даже не могли притронуться к шампанскому, которое он захватил с собой по такому случаю. Если он ждал горячих поздравлений, то зря старался. В любом случае с нами никто не советовался и, в принципе, не ждал ответа. Он просто забирал с собою маму, вот и всё. Такова была логическая развязка полугодовой осады нашего дома, которой ее защитники не оказали ни малейшего сопротивления. С того самого дня, когда он впервые встретил ее, когда она болталась под дождем между площадью Святого Августина и площадью Согласия, и привел ее к нам, всю промокшую до нитки, он отнимал ее у нас по дольке, день за днем. Он забросал ее нарядами: элегантные костюмы и туфли на шпильках, у мамочки новый имидж. Поначалу ей даже было сложно пройти пару шагов, ну прямо как большой ребенок, что учится ходить. Он отвел ее в парикмахерскую, где безжалостно отрезали ее прекрасные длинные волосы. Он потащил ее и к психиатру, которого ему рекомендовал один из друзей. А у этого типа, надо сказать, везде были друзья. Как он сказал, психиатр весьма заинтересовался ее случаем. Типичная, но частичная амнезия. Она помнила лишь имя и лицо любимого человека и больше ничего из своей прошлой жизни в Штатах. У меня чесался язык спросить, помнит ли она по-прежнему, что я — ее дочь, но я так и не собралась с духом. Бабушка и дедушка тоже молчали. Они ссыхались прямо на глазах, забивались, как тараканы, по щелям квартиры, в которую силой вторгся чужеземец. Никогда я еще не видела их такими жалкими, даже когда мамаша сбегала на ночные гулянки. Они, похоже, смирились с тем, что дом для престарелых будет для них «одним лишь благом, вы увидите». И все же, когда чужестранец покинул наш дом, оставив на столе початую бутылку с шампанским, бабушка неожиданно взорвалась революционным гневом. Она трясла своей тростью, бешено вращая зрачками, и с раскрасневшимся лицом визжала, что ни у кого нет прав вот так забирать дочку у ее матери, что никогда, никогда в жизни она не уедет из своей квартиры, что мужчина, который водит женщин по парикмахерским, не заслуживает ни грамма доверия. Вдруг рот ее перекосился от боли, она схватилась за сердце, а трость выпала из ее слабеющих рук. Глядя на эту потешную шпагу, я вспомнила тираду дона Диего: «Рука моя, которой с почтением восхищается Испания…»
Читать дальше

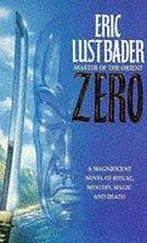




![Паскаль Энгман - Огненная земля [litres]](/books/386897/paskal-engman-ognennaya-zemlya-litres-thumb.webp)
![Питер Уоттс - Огнепад - Ложная слепота. Зеро. Боги насекомых. Полковник. Эхопраксия [сборник litres]](/books/407808/piter-uotts-ognepad-lozhnaya-slepota-zero-bogi-na-thumb.webp)