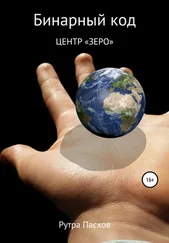На другом краю земли над плоской, как сияющий стальной лист, поверхностью моря взлетает истребитель. На улице Бьенфезанс, вытянувшись на кровати в кромешной темноте своей спальни, бывало, мама, возвращаясь после своих прогулок, забывала выключить свет в коридоре, и я, раздраженная струящейся из-под двери полоской света, вставала, чтобы избавиться от нее, — я замерла в ожидании. Бабушка и дедушка уже давно отключились и храпят на своих матрасах, загнутые края которых, словно пограничники, надежной стеной встали между двумя царствами сновидений; мамочка тоже похрапывает, отсыпаясь после очередной попойки, а я жду знака, жду, когда задрожит тишина ночи. Я точно знаю, что он придет. Мне страшно, но я жду его. Я не съеживаюсь от страха, я лежу, бросаю смелый взгляд в глухой мрак неизвестности. Шторы, шелестя, начинают слегка покачиваться. Я кожей ощущаю, как скрипит наэлектризованный ожиданием бархат. Гул сочится сквозь тяжелую ткань, растет, расползается по комнате, отражается от стен, и глухое рычание начинает кружиться надо мной, придавливая меня все сильнее и сильнее своим незримым грузом. От ужаса я еще глубже вдавливаюсь в кровать. Я хочу в ней раствориться целиком, без остатка. Бросает в жар. Мне душно, но я не решаюсь сбросить с себя покрывало. И так каждый вечер, каждый вечер он является мне. Что ж, я уже привыкла. Однажды ночью я решаюсь наконец заговорить с ним, я шепчу, как заведенная: «Ты видишь меня? Ты видишь, в какую тоскливую нору ты приземлился? Чего ты хочешь?» Поначалу он не отзывается. Продолжает невозмутимо кружить по комнате. Но со временем я начинаю улавливать разницу в шуме его невидимого двигателя. Когда гул становится сильнее, даю себе инструкцию, это означает «да». Я болтаю с ним о моей мамочке. Она сейчас сидит в баре, на высоком стуле перед стойкой, а какие-то уроды лапают ее своими толстыми потными лапами. Они заказывают для нее выпивку, чтобы, ясное дело, накачать ее как следует. Жужжание все ближе. Он совсем рядом. Он скользит вдоль изгибов ушной раковины, обдавая меня горячим шепотом. Я держусь стойко, как партизан на допросе. «Не улетай, Цурукава, успокой меня».
С тех пор он каждую ночь прилетает ко мне и приземляется на край моей кровати, а я засыпаю под его колыбельное жужжание.
Как-то, возвращаясь под утро, мама не дошла до квартиры и свалилась прямо на лестнице. Консьержка обнаружила ее на рассвете, она валялась на ступеньках и храпела на весь подъезд. Звонок консьержки разбудил меня, и я, быстро одевшись, бросилась вниз. Когда я трясла маму за плечи, пытаясь ее разбудить, правда, без всякого успеха, я вдруг услышала в воздухе Цурукаву. «Улетай, улетай отсюда, — зашептала я, — сейчас не время». Я обхватила мамашу, и мне почти удалось поставить ее на ноги. Ее голова безжизненно свесилась на грудь. Я тащу маму что есть сил. Консьержка тараторит. Охотник гудит-жужжит. Пот градом стекает по моему лицу. У меня в глазах начинают мелькать звездочки. Стены кружатся в диком танце. И вдруг раздается чудовищный пронзительный свист, он нарастает с головокружительной быстротой, заполняя до краев наш подъезд. Мне чудится, что моя ночная рубашка разлетается под халатом на мелкие клочья. Я падаю в обморок, увлекая за собой мать. Потом она очнется первой. От удара она наконец протрезвела. Консьержка сказала, что я свалилась в обморок из-за того, что слишком резко встала, да еще с таким грузом. И, само собой, она не слышала никакого свиста, ни страшного, ни обычного, никакого, ничего, зеро. Ну да, Зеро, точно. Схватив нас под руки, она дотащила обеих до квартиры.
Он хотел меня убить. Точно. Он хотел пронзить меня своим свистом, размышляла я, вытирая полотенцем взмокшее от пота тело. Я заблуждалась на его счет. Нет у меня никакого друга. И никогда не будет. Он завис в воздухе, готовясь к атаке, чтобы убить меня, как однажды он убил моего отца. Я останусь в одиночестве до конца своих дней. Если он вернется, я погибла.
Я задыхалась, я не могла оставаться в своей спальне и выскочила на улицу. Яркие лучи солнца скользили по окнам тащившейся вереницы машин, которые казались мне армией надвигающихся на меня истребителей, они замерли на красном светофоре, бесконечное железное воинство, готовое рвануться вперед, грохоча и сметая все на своем пути. Любой шум выдавал незримое присутствие охотника. Любой шум был отголоском завывающего в ярости истребителя. Куда от него деться? Я вернулась к себе в комнату, откуда только что сбежала. Я дрожала с головы до ног. Я свернулась калачиком на коврике у кровати и пролежала там не знаю сколько времени, пока меня не обнаружила бабушка.
Читать дальше

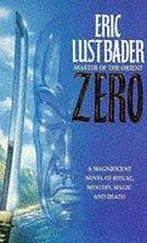




![Паскаль Энгман - Огненная земля [litres]](/books/386897/paskal-engman-ognennaya-zemlya-litres-thumb.webp)
![Питер Уоттс - Огнепад - Ложная слепота. Зеро. Боги насекомых. Полковник. Эхопраксия [сборник litres]](/books/407808/piter-uotts-ognepad-lozhnaya-slepota-zero-bogi-na-thumb.webp)