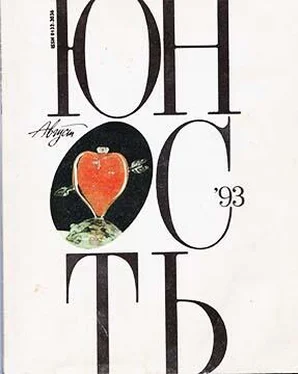Совершенно верно, жалкая газетенка с наиглупейшими статейками, порвать ее в клочки — и больше ничего!.. Но вот мелькнул обрывок, какой-то эпизод. Задерживаю его перед глазами, механически вникаю, и что же: будучи задержан по подозрению в совершении некоего криминального деяния на почве любовной, некий субъект, очень невзрачный, тихоня в быту, отец одного или двух детей, можно сказать, слюнтяй, был помещен в общую камеру следственного изолятора, где вызвал чисто человеческое осуждение и отвращение даже у восьмерых сокамерников, бандитов и воров. Конечно, растоптали очки и маленькое фото жены и малютки и утопили в санузле. Вероятно, все восемь проучаствовали в совершении над ним того, что на лагерном жаргоне именуется «опустить». Вероятно, жестоко избивали при этом. Примечательно, что он практически не кричал, не сопротивлялся, как будто воспринимал все как «награду». Примечательно, что впоследствии он ни словом не пожелал объяснить происшедшее в дальнейшем или пожаловаться на перенесенные издевательства, хотя бы в качестве своего оправдания: та злосчастная ночь уже заканчивалась, когда он неслышным ужом выполз из своего угла. Бог весть откуда у него взялось лезвие от безопасной бритвы, которым он почти мгновенно успел перерезать горло троим обидчикам из восьми, когда поднялся шум и вмешалась охрана. Изловчившись, он зачем-то тяжело порезал и одного из стражников… Медицинская экспертиза, однако, признала его вменяемым, и жуткая и бессмысленная его история подошла к развязке.
Я дико озирался по сторонам, не сразу сообразив, что пассажиры спокойно и чинно потянулись через распахнутые стеклянные двери на ярко осветившийся перрон, совершая организованную посадку в новенькие, блестящие вагоны длинного поезда, в то время, как на крыше локомотива подскочили и с треском и электрическим фиолетом искр две пары контактных щеток прилипли к проводам.
Поблекло и скоро прошелестело окончание неприятной истории: содержался неопределенное время в одиночке в ожидании исполнения приговора (следствие и суд расплылись абсолютно); однажды, кажется, это уже была зима, препроводили в помещение для зачтения приговора, потом сразу в комнатенку «для исполнений». Может быть, на полу были опилки. Встрепенулся, чтобы отыскать и в безотчетном любопытстве заглянуть в глаза своему «исполнителю», но маленькая пулька уже вошла в затылок и вышла плашмя у виска, вырвав оттуда острую костяную щепку. Но жизнь еще не прервалась. Короткий промежуток до второго выстрела — «контрольного», — или что у них там предписывалось по инструкции… Может, уж и так…
Встряхнувшись, как собака после сна, я выбежал на перрон с чувством редкой уверенности: успеваю!
Поезд уже медленно-медленно потащился вдоль платформы, а я шагал, спокойно держась за поручень у входа в вагон, и мне ничего не стоило вскочить внутрь. Повременив чуть-чуть только из мальчишеского озорства, я вскочил в уже хорошо разогнавшийся вагон и приблизился к окну, за которым все плыло, кружилось цветными и черными пятнами.
С чего бы это? Какой странной, нежданной мукой и грустью вдруг наполнилось сердце?.. Я мгновенно припомнил то давнее, что никак не ожидал припомнить именно теперь, невинную, вполне идиллическую картину: жаркие летние дни, когда мы только начинали нашу общую жизнь и ничего не знали о нашем будущем.
Мы то долго бродили по лесистым горам, осматривая окрестности, то долго отдыхали, разметавшись на брошенном на траву тканевом красном одеяле, и внутри, в теле жены, как в космосе, уже существовал малютка; или лазили по зарослям дикого малинника, жадно, горстями, обрывая крупные, прыскающие темным соком ягоды, вздрагивая от разносящихся то тут, то там шорохов, потому что весь склон, устланный отжившими, пересохшими ветвями, так и кишел ядовитыми гадами… И мне в самом деле было удивительно, что еще могут появиться другие женщины, кроме нее… Все это отнюдь не было сном, но теперь, в этот момент, будто бы снилось.