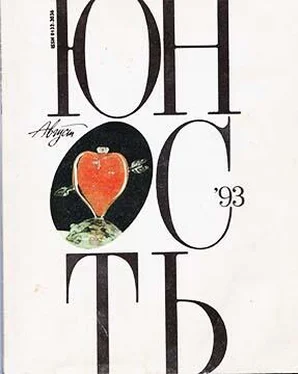С пологой, продленной горы, миновав несколько празднично освещенных арок, мы летели уже по совсем пустому шоссе. Внизу, под горой раскинулась просторная дубовая роща. Вдоволь насладившийся быстрой ездой, я начал сбавлять скорость и вел мотоцикл между прохладными, темными деревьями и совсем на малом ходу выдвинулся к берегу поблескивающего зеркального водоема, пока не приблизился к стаду великанских улиток, пасущихся на мокром лугу. Я заметил, что одна из раковин-спиралей, размером с целый цирк, пуста и в нее ведет ровная, узкая дорожка, и я с любопытством зарулил внутрь этой изящной винтовой панцирной скорлупы, которая виток за витком закручивалась все уютнее, и в полной темноте, в которой лишь на мгновение вспыхивали микроскопические фиолетовые искорки-блестки, мы стали приближаться к какому-то всеобщему центру, и мне нисколько не хотелось, чтобы об этом центре мог узнать еще кто-то, кроме нас двоих. И когда я оказался в самом центре, то уже знал наверняка, что совершенно невозможно, чтобы кто-то посторонний узнал о нем, даже если бы я и захотел обо всем рассказать.
Посреди безвидной, запутанной местности, утешавшей полуночного путника слабыми запахами распаханных лугов и влажными травянистыми дымами, упругая дорожка не затерялась и вывела точно. И вот в необычайно поздней и непроглядно черной тишайшей природной ночи вдруг открылось что-то вроде приятно светящегося входа и, приближаясь, голубело и расширялось.
Подойдя вплотную, я вошел.
Я оказался в зале ожидания маленького провинциального вокзала, где под сводчатым, голубым, чисто оштукатуренным потолком ярко горел светильник-звезда, набранный из тонких трубок дневного света, а за распахнутыми узкими окнами стояли черные акации с перепончатыми кронами, обрызганными жемчужистым ночным туманом.
Все здесь было тихо и сонно. Ряды гладких скамеек из красного пластика были тесно заполнены дремлющими пассажирами; информационные репродукторы молчали, а темные перроны, просматривающиеся за неподвижными створками тяжелых стеклянных дверей, были все до единого пусты, и никаких поездов будто бы и не предвиделось.
Изрядно утомленный, я пробрался на свободное место и прильнул к скамье, покорно повторяя плавные изгибы ее спинки и сиденья. Но под спудом усталости еще тихо тлел какой-то хмель или память выносила на поверхность что-то тягучее и вселенское, словно в магии гашиша, и с теми же неутихающими, вечными песнями о пасущихся сернах, медовых сотах, спелой пшенице и виноградниках.
Я приподнял голову и увидел, что прямо из черного, посеченного радужными прожилками зеркала выглянуло мое странное отражение, как будто напоминая с гримаской сарказма: не мои ли глаза говорят лишь о том, что не ведают ничего лучшего на земле, как спать с женщиной, и не мне ли, не мне ль столь многие из женщин способны с весельем ответить взаимностью… Я прикрыл глаза, чувствуя, как с нарастающей сонливостью границы моей внешней оболочки будто бы начинают быстро раздвигаться, словно в раздувающемся шаре, но по мере этого расширения та область — чуть выше переносицы, где сосредоточено самоощущение моего Я, уменьшается и проваливается в это расширяющееся пространство, как сверкающая, брошенная в воду монета быстро и легко уходит в глубину.
«Столько-то цариц, столько-то наложниц и девушек без числа, но не они, не одна из них, но единственная она, моя голубка, запечатанный источник…»
Почудилось, что все мы поем это вслух, и, встрепенувшись, я подтянулся на сиденье. Но, оглянувшись, только сдержанно усмехнулся: не было у них ртов, чтобы петь, и не было даже ушей, чтобы пение слышать. Что же было? Нечто язычески выразительное — простое и продолговатое, словно надолбы. Отправление поезда неопределенно затягивалось — вот они и застыли торчком, в параличе бездействия: долговязые и коротышки, худые и толстяки, прямые как палки и совершенные кривули… Впрочем, и я принадлежал к той же расе.
Чтобы осмотреть всего себя или, вернее, осмотреть всю внепропорциональную, обширнейшую часть себя — от мшистого основания до нежно-матового эллипса купола с опоясывающим его вычеканенным гребешком, а также стены, украшенные как бы барельефами и змеистой лепниной, мне приходилось выгибаться и наклоняться то в одну, то в другую сторону относительно обоюдного перешейка, скрывающего в себе, подобно соединительному кабелю, многие тысячи тончайших волокон-проводников, благодаря которым я мгновенно ощущал все сложнейшие метаморфозы, происходящие в каждой поре и капилляре всего гигантского объема.
Читать дальше