Соловьев немигающе посмотрел на Николая:
— Удивляешься, поди, чо ждал тебя. Сорока на хвосте принесла таку весточку. Говорит, вот тебе, Иван Николаевич, от меня срочна депеша…
— Будет тебе, Иван Николаевич! — Заруднев оборвал Соловьева. — У советской власти силы найдется. Только она до времени отложила свой выстрел, тебя жалеючи, потому как с тобою нищета да голь перекатная. Не испытывай великодушного терпения. Не я выстрелю — выстрелит другой.
— А уж было дело, Заруднев. Выцелил тут меня дружок мой закадычный. Может, слыхал? Дышлаков. Да бог ведь не выдал, живу.
— Сдавайся-ка, Иван Николаевич. За добровольную сдачу получишь жизнь. Разве плохо? Или жизнь тебе не нужна?
— Да как сказать? Не помешала бы, — с горькою усмешкой ответил Соловьев. — А ночь-то темна, и не верю я вам, уже давно никому не верю.
— Напрасно.
— Может, и так, — вздохнул атаман.
— Поехали, Иван Николаевич. Время позднее, — вкрадчиво позвал Чихачев. — Кака польза от энтих завлекательных побасенок?
Соловьев посмотрел в тихий костер, где в солдатском котелке, шипя и подвывая, закипал чай, и с искренним сожалением сказал:
— Винца бы белого выпить за ради нашей встречи, да вижу, чо нету.
— Мы и за бутылкой посидим, а? — весело проговорил Николай. — Только подумай, Иван Николаевич. И дай знать. А то ведь сам тонешь и других топишь.
— Пошто не подумать? Подумаю, — спокойно ответил атаман, разбирая поводья и ставя ногу в стремя. — Каждый всегда должен об чем-то думать.
1
Дышлаков был явно не в себе и не хотел замечать, что его посещение не только не доставляет Дмитрию удовольствия, но что оно неприятно ему. И тогда Дышлаков, шумно отпыхиваясь, принялся возмущаться, что люди еще могут спокойно спать в самый разгар жестокой классовой борьбы.
— Не шумитя! Не шумитя!
Дмитрий отбросил к стене байковое одеяло и с осовелым видом посмотрел на раннего гостя. Наступило напряженное молчание. Дышлаков, очевидно, ждал, что Дмитрий спросит его о цели неожиданного приезда, но такого вопроса не последовало, и Дышлаков сердито заговорил первым:
— Мне все равно. Я не боюсь! Только у кого ж это революционна биография? У меня али у Итыгина?
Дмитрий попытался уловить причину дышлаковского гнева. Но ничего сразу не понял, отер ладонью усталое лицо и сел на кровати, подобрав под себя ноги.
— Большая была семья, — продолжал Дышлаков, накаляясь с каждым словом. — Кору толкли сосновую, лебеду жрали. Мово родного дядьку при Колчаке в общу могилу зарыли. Перекрестился дядька да только и сказал, что за народ, мол, кончину принимаю. Думаешь, легко, Горохов? А кто под белочешские пули ходил без дрожи? Сидор ходил. Одна в груди отметина, а друга и того пониже. Так это, выходит, не биография? А у Итыгина биография, революционна! А? Я ведь и тебя потащил за собою выручать его! А мог не стараться. Определенно.
Теперь Дмитрию вдруг все стало ясно: Дышлаков говорит о случае в Чебаках. Сам виноват, что поднял панику. В результате сорвал наметившиеся переговоры. Дмитрию было стыдно вспоминать эту глупую выходку, в которой он тоже невольно участвовал.
— Итыгин хочет меня засудить! На допросы таскают, оружие отобрали. Ты должон заступиться, Горохов! Ты партейный, и вера тебе не меньшая. Не шумитя!
— Что я могу сделать?
— Не перебивайтя. Дайтя биографию доскажу. Ты же знашь, что Соловьева я раскусил. Я его, контру, понял! А кто Автамона к стенке припер? Я ведь припер. Да ежели теперь Автамон даст каки ложны показания, так я в муку изотру! Себя не пожалею! А потом уж хоть в распыл меня, хоть в домзак — мне все едино!
— А закон? — сонно сощурился Дмитрий.
— Что? Неужто я и не заслужил, чтобы пострашшать кулака?
— Будь осторожнее, Дышлаков, — предупредил Дмитрий.
— Ах, и ты туда же? Судитя, милы мои, казнитя меня, пролетарского командира! Теперя вам все как есть разрешается, а когда мы, бесстрашные, под пули шли…
— Давно то было. А сейчас ложись-ка ты спать. Вон на лавку.
Дышлаков не лег, он позвал Дмитрия к Григорию Носкову, чтобы втроем обсудить, что же Дышлакову делать. Дмитрий идти отказался.
— Вон как! — вскрикнул ужаленный в сердце Дышлаков. — Ишь, кто ты есть, Горохов! Перерожденец и кулацкий прихлебатель! Баба тебе, оказывается, милей красной народной идеи!
Дмитрий молча смотрел на расходившегося Дышлакова. Затем вдруг опустил ноги на пол и показал партизану на дверь:
— Уходи!
Дышлаков опять задышал прерывисто, с певучими переливами в груди:
Читать дальше
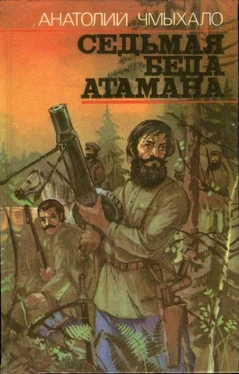

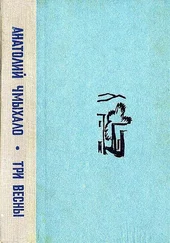

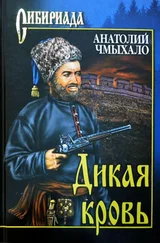


![Василий Сахаров - Сын атамана [publisher - МедиаКнига]](/books/414756/vasilij-saharov-syn-atamana-publisher-mediakniga-thumb.webp)




