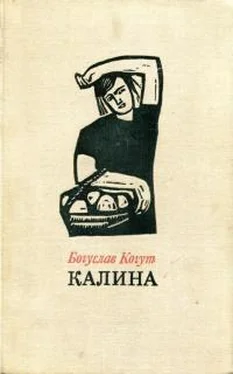— Да нет, я совсем не смеюсь.
— Ничего смешного нет. Феликс говорит, что этот Манусь приедет сюда, не простит нам, и Феликс считает, что именно я должен быть начеку, я первый бросился на него, а до этого в следственной тюрьме избил его.
— У тебя ведь есть ружье.
— Есть, конечно.
— Значит, нечего и бояться.
— Я не боюсь.
— И у Бориса есть ружье.
— Ты все о Борисе.
— Нет, вовсе нет. Я о том, что нечего бояться.
Она смеялась над ним, про себя, но определенно смеялась. Она имела право, так как не знала Мануся, о человеке никогда нельзя рассказать всего. Но над Матеушем смеялся также и Борис, смеялся откровенно.
— Чудак ты, — говорил он, — неужели Манусь, если ему удалось сбежать, именно у тебя будет искать убежища! Если его еще не сцапали, то он взял направление туда, куда Макар телят не гонял, прячется в тихих местах, далеко не уйдет, холодно уже, зима на носу, только круглый идиот решится бежать в такую пору…
— Вот именно. Он ведь невменяем.
И Матеуш, уходя в лес, брал с собой ружье.
Раньше он никогда этого не делал, значит, боится Мануся. «В конце концов, у каждого есть свой Манусь», — заключил Борис и перестал удивляться поведению брата.
Вечером Матеуш подолгу не возвращался, и это было на руку Борису; он сидел и писал очередное письмо жене, отличавшееся от всех предыдущих тем, что оно обязательно будет отправлено, так решил Борис.
«Моя дорогая.
Ты надеялась, что я, живя здесь, изменился, продумал кое-что. Так оно и есть. Я думал очень много и в первую очередь о нас с тобой и о том, что я должен делать дальше. Сегодня я сбрил бороду, теперь я могу правой рукой не только причесываться, но даже бриться. Выгляжу я совсем по-другому, можно сказать, что выгляжу совершенно нормальным человеком. Думаю, что мне следует поехать в тот санаторий, там моя рука окончательно придет в норму, теперь я верю в это, а ведь я было думал, что профессор покалечил мне нерв; не убедившись, никогда не следует подозревать человека ни в плохом, ни в хорошем. Я должен закончить свой памятник и даже радуюсь, что удостоен этой чести, ведь это большая удача. Если я примусь за дело, а я уже представляю, как, получится совсем неплохо. Такую возможность упускать нельзя, я чувствую прилив сил, какого у меня давно уже не было.
Прихожу к выводу, что взрослый человек тем и отличается от детей и незрелых юнцов, что способен определить дистанцию не только по отношению к другим, но и к себе, способен смотреть на все дела и события спокойно, рассудительно, не раздирая одежды, увидеть вещи в должном масштабе, отказаться от своего «я» как основного критерия всюду и всегда, того «я», которое очень часто бывает химерой, деформацией реальной личности — даже Гамлет был бы нормальным человеком, если бы не был молокососом, нет гамлетовских проблем, имеется лишь его точка зрения. Огромное большинство всяких Гамлетов — просто-напросто заурядные актеры, которые свой солиптический опыт считают реальным и объективным образом мира, в то время как он часто бывает довольно жалким мирком.
Но я хотел говорить с тобой не об этом. Должен тебе сказать, что мои раздумья привели меня к пересмотру многих вещей, мне не хочется делать банальных заявлений вроде «очень сожалею, прости» и т. д., но при воспоминании о последнем нашем разговоре (если его можно назвать разговором) я сгораю от стыда и очень надеюсь на твою снисходительность и уменье прощать глупые выходки, на твою интуицию и, наконец, на знание моего скверного характера. Поэтому я надеюсь, что мы сможем разговаривать с тобой как взрослые, разумные люди, пожалуй, я даже не надеюсь, а уверен, все, что от меня зависит, я сделаю.
Я привезу много сушеных грибов и должен еще тебе сказать, ты повтори девочкам, что мне их очень не хватает, жить вдали от них — это все равно что ходить с завязанными глазами; плоская метафора, но, по-моему, она передает одиночество человека, обреченного жить только памятью и воображением, снами и молчанием; не представляешь, как мне интересно знать, что они обо мне думают, каким помнят меня и каким знают; они ведь в том возрасте, когда все и вся проверяется; трудно определить то чувство, которое охватывает меня при мысли, что они плохо думают обо мне, что они во мне обманулись, разочаровались, сейчас я еще не знаю, как этому помешать, но вместе мы что-нибудь придумаем, ты поможешь мне, я уверен в этом!
Ты, верно, удивлена, почему я не звоню тебе, а пишу, но по телефону так мало можно сказать. Есть и другие причины, которые я тебе как-нибудь объясню, этот телефон здесь не очень доброжелателен ко мне, слишком часто он ставил меня в положение, по отношению к которому трудно найти нужную дистанцию и которое проще всего понимать вульгарно и буквально. Я не раз упрекал Матеуша в буквализме, но это было как в поговорке о котле и горшке, сам я был чересчур буквален, я прекрасно это вижу теперь, а когда человек видит, как должно быть, значит, он уже на правильном пути. Я, кажется, уже на этом правильном пути, и это тоже удивительное чувство».
Читать дальше