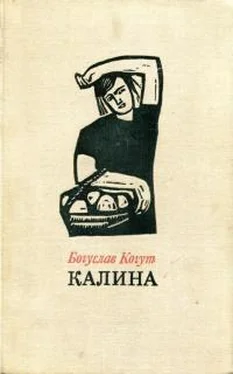— Ты думаешь, у Леля нет больше забот, как ходить за тобой по лесу? — спросила Калина. — Разве ты через месяц после женитьбы убегал на ночь в лес?
— Дело не в этом.
— В случае чего, если вдруг кто объявится, можно сказать, что ты подстрелил кабана в своем округе, а он прибежал сюда.
— Да не в этом дело.
— А в чем?
— Ты ведь знаешь, за что сидит Феликс Туланец?
— Это не одно и то же. Там совсем другое.
«Плохое дело я задумал», — решил Борис, когда они уже шли с Калиной по лесу, а вслух сказал:
— Не забудь, что ты меня подбила на преступление.
— Не забуду, — рассмеялась она.
Луна долго не всходила, а когда наконец взошла, не могла пробиться сквозь облака, затянувшие горизонт на востоке. Они сидели на краю просеки, в тиши густого перелеска, время будто бы потеряло плотность, лишилось измерения, и Борису показалось, что остановились все часы на свете и люди перестали дышать, наступила пауза в беге времени, такое он ощущал когда-то в детстве, когда, забравшись на стропила сарая, прыгал вниз на пахучее сено; это было давно, и воспоминание удивило его своей четкостью.
— Борис…
— Да, Калина?
— Тебе говорил мой старик о костеле?
— О каком костеле?
— Значит, не говорил.
— Ты о чем?
— Хотят просить тебя костел в Подгродеце расписать.
— Меня — костел?
— Чего ты удивляешься. Ищут настоящего художника. Хорошо заплатят.
Для того чтобы сообщить ему о костеле, совсем не надо было устраивать эту ночную вылазку в лес. Поговорить ей хотелось, а не охотиться, вот так амазонка.
— Ты ведь хороший художник. Занял первое место на конкурсе, они узнали об этом и о том, что ты здесь. Хотят идти к тебе.
— Это ты подсказала им?
— Не совсем.
— Скажи, чтобы не приходили.
— Скажу. А почему?
— Я больше никогда ничего не буду рисовать.
— А что будешь делать?
— Не знаю, может, стану лесничим.
— Глупости ты говоришь. Я немного знаю тебя.
— Честное слово, живописью больше заниматься не буду. Никакой я не художник. Я просто человек, который ничего не умеет.
— Борис!
— Да?
— Ты меня своими разговорами не проведешь.
— Ты этого не-понимаешь.
— Возможно, не понимаю; тогда объясни так, чтобы я поняла. Чего ты зазнаешься?
— Я зазнаюсь? Я? Впрочем, ты попала в точку. Каждый такой, как ты говоришь, художник оттуда и берется. От предрасположения к исключительности, от самой что ни на есть заурядной мании величия. А если говорить точнее, от желания показать себя, доказать, что ты не тот, кто ты есть, не серый человечек, каких в данное время живет на земле три миллиарда, три миллиарда! А если взять прошлое и будущее вместе, то этих миллиардов есть, а вернее, будут миллиарды. Миллиарды миллиардов. Ну, так вот, такой человечек решает, что среди этих миллиардов, среди этого множества он должен как-то выделиться, иначе жизнь, эта пошлая жизнь, о которой он так хлопочет, за которую так боится, и так ее ценит, иначе эта жизнь не будет иметь никакого смысла. Кто ты такая? Одной меньше, одной больше на земле, разве это имеет какое-нибудь значение? Не имеет. Была ты или тебя не было — совершенно все равно. Но когда ты начинаешь делать то, чего не делают остальные, то ты уже становишься одной из немногих, так тебе кажется. А если ты делаешь это лучше, чем ряд тебе подобных, то ты начинаешь мнить, что твоя персона, твоя жизнь, твоя никчемная жизнь приобретает значимость, смысл. А уж если каким-то образом ты становишься Ван-Гогом, то тогда — да-да! — ты уже не пылинка во вселенной, тебя уже видно и слышно вширь и вдаль, в пространстве и во времени. И тогда ты можешь сказать себе: как много я сделала, как я была нужна миру, как хорошо, что я не умерла в грудном возрасте, не спилась, как Моника Гловацкая или Борис Рутский, как хорошо, что мои проклятые муки не заставили меня сменить профессию и так далее, как хорошо! И это будет правдой, потому что то, что останется или осталось после тебя, одного заставит прослезиться, другому откроет глаза на то, чего он никогда не видел, а многим другим даст хлеб, хлеб насущный, честно заработанный болтовней о Ван-Гоге, книгами о Ван-Гоге, торговлей Ван-Гогом, поделками под Ван-Гога, оплевыванием Ван-Гога. Но в то же время это будет неправдой, обманом, потому что никто не знает, сколько Ван-Гогов погибло в войнах или вообще не родилось, или стало лотошниками, и если бы с этим единственным тоже случилось такое, то никто бы о нем тоже не знал, значит, в сущности, все равно, был он или его не было, мучился или посвистывал, рисовал сумасшедшие подсолнухи или ловил рыбу.
Читать дальше