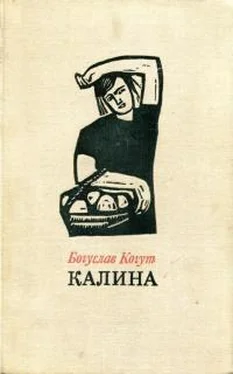— Помощник мне нужен послушный.
— Ну и хитер ты, смотри у меня, — пригрозил конвоир.
Но тюремная администрация разрешила Матеушу взять помощника, правильно рассудив, что раз власти хотят по дешевке произвести ремонт бесценных часов — гордости города, — то нужно мастеру идти навстречу. И уже на следующее утро Феликс Туланец в качестве помощника отправился в ратушу вместе с Матеушем. Они сидели на верхушке башни, как на голубятне, и отсюда видны были еще более дальние просторы, чем из окна их камеры на четвертом этаже. Конвоир оставлял их одних наверху и спускался вниз, не опасаясь, что они убегут, не так уж много возможностей представлялось для побега. Если бы они попытались как-то покинуть башню, минуя единственную чердачную дверь, их бы сразу же заметили; кроме того, любому конвоиру ясно, что заключенный, которому осталось сидеть немногим более десяти месяцев, не станет убегать, разве что он ненормальный, а часовых дел мастера такого впечатления не производили. Матеуш пришел к выводу, что лучше всего было бы возиться с часами до конца срока заключения. Этого, разумеется, сделать им не удастся, но и спешить они не будут, пока не убедятся, что эта уникальная рухлядь действительно может ходить.
Им привезли всевозможный инструмент: отвертки и гаечные ключи разных размеров, напильники и плоскогубцы, молотки и пилы по металлу, паяльную лампу, отвес, какие-то клещи, даже лупу, которая их невероятно рассмешила, так как была намного меньше любой самой «маленькой» детали часов.
В часах все детали были соединены с помощью маленьких медных заклепок — очевидно, когда делались часы, сварки еще не существовало; процесс расклепывания был очень трудоемким, приходилось каждую заклепку подпиливать и осторожно выбивать, чтобы резким толчком окончательно не поломать дряхлого механизма.
Постукивая молотком по заклепкам, Матеуш напевал любимые песенки Бориса:
И лед трещит, со стрехи вода льется,
Хозяина дома нет, хозяйка смеется…
или:
Гей, там лю-убили, да-а-а.
Там любили молодого казака-а-а…
Они без устали повторяли эти два куплета; время от времени конвоир начинал сердиться и приходил с выговором.
— Здесь ведь не тюрьма, шеф, — обезоруживающе смеялся Феликс, — это ратуша.
Конвоир сдавался, какое-то время следил за работой, тогда они делали вид, что спешат, затем он спускался вниз и скучал в одиночестве. Как-то раз, направляясь под его присмотром в тюрьму обедать, они услышали, как конвоир затянул в такт ходьбе:
Матеуш с Феликсом тут же подхватили, и, прежде чем конвоир успел опомниться, их окружила стайка подростков, хлопая в ладоши в такт песне и отчаянно притопывая.
— Поют-то по-русски, — крикнул кто-то, и тут только конвоир вспомнил про устав.
— Песню отставить! Шире шаг!
Эти дни Матеуш чувствовал себя почти как на воле, как в служебной командировке, например. Два раза в день, утром и после обеда, он ходил на работу; помещение на верхушке башни, где сияло солнце и через открытые старые окна без решеток свободно врывался ветер, ничем не походило на тюрьму: Матеуш воображал, что он в лесу, выслеживает зверя или же в туристическом лагере на отдыхе; на ночь он возвращался в камеру, словно бы к себе в гостиницу; шагая по улицам городка, он совсем забывал про свою тюремную одежду и про сопровождающего его конвоира, которому, впрочем, эта обязанность порядком надоела; во всяком случае, служебного рвения он не проявлял; на улицах постоянно попадались одни и те же лица, уже знакомые, и они обменивались дружелюбными взглядами, как свободные люди, которые часто встречаются, торопясь по своим делам.
Новизна и необычность обстановки действовали как наркотик или как колдовство, и действие их не могло длиться долго. Вернулись тоскливые сумерки и бессонницы, ночные кошмары, мысли неотступно возвращались к тому худшему, что было в его жизни, перед глазами стоял Борис, его окровавленное лицо, глаза, смотрящие с упреком, пожалуй, даже с ненавистью: «Да, наградил ты меня», его неподвижная рука, похожая на плеть, а вдали, на втором плане, испуганный и злой взгляд Здиси: «Я говорила, что эти вылазки в Демболенку плохо кончатся, но ты летишь прямо как бабочка на огонь», и опять Калина, а над нею наклоняется старый Колодзей, хищно и грозно, она же тянет руки, обнимает старика и шепчет: «Матеуш, Матеуш», — эти мысли ни явь, ни сон, но от них нельзя освободиться даже там, на башне.
Читать дальше