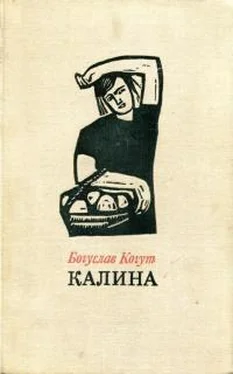Борис промолчал и подумал, что ему было бы тяжело долго оставаться в таком окружении. Надо обязательно выбраться отсюда.
Здися добилась санитарной машины, Бориса положили на носилки и понесли в машину. Санитары попались не слишком ловкие и осторожные, и Борис изо всех сил сжимал зубы, чтобы не кричать от боли.
Езда была кошмарной. Здися с девочками сидела рядом с ним на корточках, машину бросало на ухабах, и Борис едва не терял сознания от боли в плече, если б не присутствие дочерей — он мог бы, по крайней мере, кричать или крепко ругаться, чтобы отвести душу.
В клинике Бориса сразу же внесли в большую комнату с огромной, подвешенной к самому потолку лампой, которая сверкала как зеркало. Врач осмотрел опухшее плечо, и на его лицо отразилось смятение.
— Сестра, приготовьте все для пункции.
При слове «пункция» Бориса охватил ужас. Ему никогда не делали пункции, но сама механика этой процедуры казалась ему бесчеловечной. Ковырять внутри тела пустым гвоздем еще хуже, пожалуй, чем сверлить зуб бормашиной. «Только бы мне не завыть», — думал он с отчаянием, наблюдая за таинственными и зловещими движениями врача. Но тут неожиданно появился разысканный Здисей профессор.
— Что изволили натворить, пан Рутский? — спросил он, протягивая руку, и не удивился, когда Борис поздоровался с ним левой рукой. — Сейчас поедем на рентген.
Сделав снимки плеча и ноги, врачи оставили Бориса одного. Он был рад, что избежал пункции, очевидно, дела не так уж плохи. Мучительно захотелось пить, мечта о кружке пива вытеснила все остальное, Борис забыл свои опасения, ни о чем не думал и лишь упорно облизывал опухшие, высохшие губы.
— Ничего страшного нет, — объяснил профессор не то Борису, не то Здисе, вошедшей вместе с ним. — Недели через три поедете на охоту.
— Я так и думал, — обрадовался Борис — Три недели — это пустяки.
— А теперь займемся вашей физиономией. Придется наложить шов, чтобы не осталось шрама.
Его снова повезли в зал с огромной зеркальной лампой, и профессор принялся накладывать шов. Борис крепко зажмурил глаза — не хотелось ничего видеть. Вся процедура, впрочем, была не слишком болезненной, но тянулась до бесконечности.
— Вот и все, — сказал профессор. — Вы держитесь молодцом. А теперь еще наколем плечо.
— Пункция? — испугался Борис.
— Немножечко наколем.
Это тоже тянулось безумно долго, пока наконец Бориса не начало рвать, и тогда профессор прекратил.
— Ладно, хватит, — сказал он. — Коллега, завтра давайте ногу в гипс, а сюда компрессы из уксусной кислоты. Вам придется, — тут он обратился к Борису, — полежать немного на каталке в коридоре. В палатах все койки заняты.
— Ничего, я подожду, — бодрясь, ответил Борис. — Спасибо вам большое и извините за беспокойство.
Его поразило заплаканное лицо жены.
— В чем дело?
— Я не могла слушать твои стоны.
— Ведь я не кричал.
— Как не кричал?
— Очень просто. Меня только тошнило. В конце. Что тебе сказал профессор?
— У тебя сломана лодыжка, но это ерунда. А вот плечевой сустав придется оперировать.
— Все-таки?..
— Но все будет хорошо.
— Где девочки?
— Ждут в саду, сюда не пускают.
— Поцелуй их крепко.
— Ты, Борис, не волнуйся. — А у самой слезы стояли в глазах. Она хотела сдержать их, но не смогла, что это — бабья слабость или, может, дела намного хуже, чем ему сказал профессор? Таков уж извечный обычай у врачей — обманывать больного.
— Иди, дети проголодались.
— Да, да, иду.
Тот день запомнился Борису до мельчайших подробностей, а вместе с тем казался каким-то нереальным, будто воспоминание о страшном фильме или сне; один этот день с вереницей событий, резкой сменой настроений, от полной апатии до животного страха, день, напряженный до крайнего предела, отделял настоящую действительность от тех часов, когда все еще было в порядке, когда Матеуш не сидел за решеткой, а он, Борис, не являл собою мешок мяса и раздробленных костей, целиком зависящий от чьего-то расположения или неприязни, улыбки или пренебрежительной гримасы, весь во власти обманчивых и капризных надежд. В этом контрасте между настоящим и тем, что так резко и внезапно оборвалось тогда утром, было что-то невероятное, как в путешествии на другую планету или в глубоком, тяжелом опьянении, когда действительность вдруг встает на дыбы и обнаруживает свое странное, неведомое доселе, непредполагаемое даже лицо.
Каждое утро, просыпаясь очень рано от громкого лязга тазов, возвещающих, что санитарка пришла обмывать неподвижные манекены, он заново привыкал к самому себе, к смешной неловкости своей левой руки, из которой коварно выскакивала стеклянная утка, а зубная щетка попадала в нос, к своему лицу в ссадинах и кровоподтеках, которое было видно в зеркале над умывальником, когда Борис отрывал голову от подушки и приподнимался, к невозможности лежать на правом боку и смотреть в окно. А тут еще появился милиционер для допроса. К другим больным приходили жены, друзья, нежные, заботливые, а к нему милиционер, личность угрюмая, грубая, несносная не в силу своего характера или поведения, а из-за своей исключительности здесь, в больничной палате. Когда Борис расписался под своими показаниями левой рукой, милиционер дружелюбно спросил:
Читать дальше