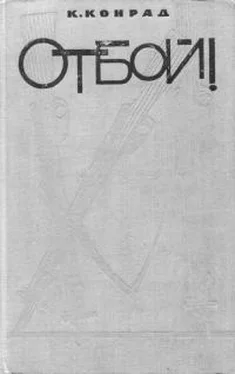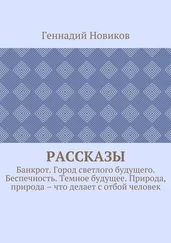Мы не можем сразу выйти на улицу, приходится ждать, пока толпа разойдется. Большая часть, наверно, пойдет на базарную площадь продолжать демонстрацию. Будет бурлить весь Загреб. Жалко мне тех бедняг, которые попадутся сегодня в лапы комендантского патруля. Комендант города — не помню его фамилии — зверь, каких мало. На арестованного солдата он глядит волком, даже скрипит от злости зубами, не жалеет оплеух, не гнушается и плеткой отхлестать. Выродок этот (природа наградила его кривыми, как колесо, ногами) никогда не расстается с двумя заряженными револьверами.
Мы с Пепичком идем, держась за руки, подставляя прохладному вечернему ветру виски и потрескавшиеся губы. Около «Порт-Артура» стоят размалеванные дамы.
Рядом витрина с вывеской: «Julo Gorglavić, narukavica» [121] «Юло Горглавич, перчатки» (сербохорватск.) .
.
Пепичек проводит рукой по спущенной железной шторе и говорит как бы между прочим:
— И у него, наверно, дела идут плохо. Сейчас много безруких… А сколько их еще будет!
На небе сияет Большая Медведица.
Это та же Большая Медведица, что и в Праге, видна она и с дворика моего родного дома. Мать, наверное, сейчас покормила гусей, идет по дворику, глядит на небо и вспоминает…
Неужели это и вправду то самое созвездие? И мы те самые, что были прежде? Мы окликаем друг друга. Это ты? Это я? Мы идем по Загребу? И в самом деле, все это было — восторги, призывы к миру и свободе? Мы плакали, растроганные овациями поэту. Мы идем по Загребу! Загреб, Загреб, Аграм! Сколько раз в школе, на уроках географии, мы показывали на карте эту столицу Хорватии!
— А у тебя не было при этом какого-то предчувствия? Не виделась наша будущая судьба?
— Нет, безусловно нет!
— Мне тоже нет. Ровно ничего. И все-таки сколько раз я вот этим самым пальцем побывал в Загребе… Нет, указкой. Пальцем карту мусолить не разрешали… Но мы брали свое на переменке, водили пальцем по рекам, горам, столицам. Да, да, Я не раз заезжал в Загреб!
— А сколько раз мы тыкали в него пальцем дома, сидя над атласом Козеппа! И хоть бы раз пришло в голову, что мне доведется побывать здесь.
— А не думал ли ты об этом, когда читал «Дубровницкую трилогию» Войновича? Наверно, и не предполагал, что этому поэту мы будем обязаны прекраснейшими минутами нашей жизни?
— Незабываемые минуты! Я бы, наверное, умер, переживи я их снова. Не выдержало бы сердце. Впервые я не жалею, что попал в солдаты. Ради этих минут стоило вытерпеть все, что досталось на нашу долю в Фиуме.
Небо усеяно звездами. Как хорошо, что звезды разбросаны в беспорядке, а не вытянуты правильными рядами, как в строю. Вот была бы скука, а сейчас так красиво!
Восемь минут двенадцатого. Моя увольнительная — до двенадцати ночи. Надо спешить.
— Прибавь-ка шагу, Пепичек, мне ведь, знаешь, еще не близко. Левой, правой. Links, schwenken.
— Интересно, что сейчас делает Войнович. Наверное, он не уснет сегодня, как и я в своем бедламе.
— Что касается меня, я засну как убитый, иначе завтра на ученье буду без ног. Ты знаешь, от всех этих восторгов и слез у меня пересохло в горле. Надо бы выпить где-нибудь содовой… Да, это было изумительно, чудо, да и только!
Мы поворачиваем за угол.
— Halt! Стой!
— Militärpolizei. Passierscheine! [122] Военный патруль. Документы! (нем.)
Перед нами двое молодых солдат из моего полка № 53, алые петлицы.
— Zdravo! [123] Привет! (сербохорватск.)
— говорю я и предъявляю увольнительную. Пепичек начинает шарить по карманам. Шарит долго, безнадежно.
— Эй, ты, пошевеливайся, нам некогда!
У патрульных лопается терпение.
— Нету? Ну, так пойдешь с нами в караулку, — грубо говорит один.
— У него есть бумажка, — вмешиваюсь я, — он получил увольнение, я сам видел, иначе бы не говорил. Ребята из пятьдесят третьего полка не врут, сами знаете.
— Помалкивай! А ты — марш с нами!
И вдруг я начинаю понимать: Пепичек попросту удрал из госпиталя. Все его рассказы об уговоре с надзирателем только басня для моего успокоения. Во всем виноват я! Я сманил его на эту затею. И вот теперь выяснится, что Пепичек не сумасшедший, что все это обман и он просто симулянт. Его отправят на фронт. Бог войны мстит нам за сегодняшнюю демонстрацию протеста.
Пепичек тоже сознает всю серьезность момента. У него прищурены глаза и сжаты губы.
Я совершенно подавлен и молча, с мольбой смотрю на патрульных.
Тонкая усмешка Пепичка никогда не превращалась в заискивающую улыбку, не изменил он себе и сейчас. Он уже сознает, что не видать ему белого билета. Еще больше сощурив глаза, он протягивает мне руку, старается скрыть огорчение, но вся его фигура и лицо стали как-то мельче, он выглядит подавленным, бледным, несчастным.
Читать дальше