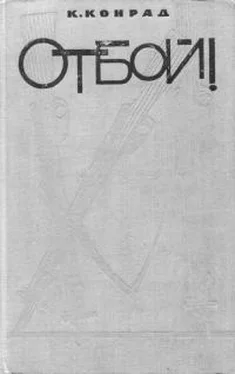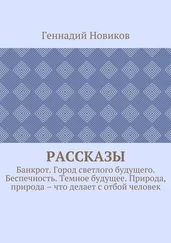— Джали! — ласково окликнул ее Пепичек и добавил с горькой усмешкой: — Не думай, я знаю, что это не кошачье имя, так звали пса мадам Бовари. Просто оно вдруг пришло мне в голову.
Я втащил его в таверну, и там, за кружкой вина, Пепичек наконец выложил мне, что произошло в его душе. Его голос, вначале слабый, понемногу окреп и приобрел обычные интонации.
— Видишь ли, — сказал он, — меня что-то ошеломило там, на бульваре, когда началась стрельба. Словно мне только что вручили телеграмму об огромном и грозном несчастье, которое постигло человечество. Я почувствовал, что не могу больше мириться с тем, что я солдат, и решил — с этим надо покончить. Пока я не сошел с ума, пока не лишился уважения к духовным ценностям мира, пока не утратил последних остатков человеческого достоинства. Разве это жизнь, достойная человека? Мы живем в полном убожестве, позволяем издеваться над собой, посылать нас на смерть, морить голодом. Прикажет тебе какой-нибудь идиот в погонах, и ты валяешься в крови, в грязи, даешь выпускать себе кишки. А в гимназии нам твердили о бессмертии человеческой души, о культуре народов, о науке и искусстве. Все это так подавляет… а я один из таких рабов. Нет, не буду больше! Я глядел на острый край тротуара, и мне пришла мысль, что есть легкий путь, чтобы избавиться от всего этого. Оступиться, всем телом упасть на камень, выставив локти вперед… и сломать руку. — На лбу Пепичка опять выступил пот. После паузы он продолжал: — Нет, не хватило духу! И я, как все, такой же раб и трус. Я кричал себе: «Сейчас, сейчас! Ну! Nieder! Donnerwetter! Чампа, nieder! Nieder, мать твою! Да ну же, черт возьми, Губачек!»
Но мне все время казалось, что камень тут неподходящий, у него слишком тупые грани. Тело мое отказывалось повиноваться, и это колебание совсем измучило меня. Воля моя требовала этого, но какая-то сила во мне противилась, и это была трусость — новое, шестое человеческое чувство. Трусость, геройская трусость! Меня охватила чудовищная усталость, все тело онемело и не слушалось призыва воли. У солдат какие-то глухонемые тела, они не слышат самих себя, подчиняются только чужой воле. Как иначе объяснить, что миллионы мужчин — мужей и отцов — идут на гибель по команде какого-нибудь лейтенантика. Я познал это на собственном опыте и испугался, что тоже не умею слушаться себя: Губачек не повинуется Губачеку!
Но теперь я уже спокоен, я уже повинуюсь. Вот, гляди, я говорю: «Рука, поднимись и поднеси стакан ко рту». Видишь, мышцы уже опять действуют. «Подай, правая рука, сигарету хозяину!» Вот как она это ловко делает! «Ну, поди сюда, я тебя поглажу за прилежание…»
Он замолк и слабо улыбнулся.
Не помню точно, что я ему ответил. Я тоже был очень взволнован, ярко представив себе единоборство его духа с телом. Нарочно упасть на камень! Способен был бы я на такой поступок? Сумел бы выставить локти и не убрать их в момент падения? Ведь можно так легко и просто избавиться от унижений казармы, попасть в госпиталь, где лучше кормят и дают спокойно отлежаться. Не струсил бы я в последнюю секунду?
Мне стало понятно, почему так изнеможен Пепичек, почему был близок к обмороку. Я и сам весь обмяк и обессилел при мысли о таком поступке, а ведь я не собирался совершать его, я только думал об этом, сидя за столиком, и даже не глядел в этот момент на острый край тротуара, как глядел Пепичек, которого он, несомненно, манил, как пучина самоубийцу. Представляю себе, как он впился в них взглядом, уже почти теряя нить мыслей, охваченный каким-то антивоенным исступлением!
Успокоившись и трезво обсудив эту тему, мы пришли к выводу, что у человека все-таки не хватит решимости осуществить такое намерение. В последнюю секунду он отдернет руку и подставит не локоть, а ладонь и упадет не на острую грань тротуара, а рядом. Потом мы оставили эту тему и заговорили об Эмануэле. Вдруг Пепичек прервал меня:
— Я так ненавижу и презираю войну, что все-таки не поколебался бы сломать руку. — Он произнес это с пугающей решимостью. — Когда мы попадем на фронт, моя ненависть к войне станет еще сильнее, и это придаст мне сил, — меланхолически прибавил он.
Чтобы успокоить его, я возразил, что Эмануэль решительно не позволил бы ему так увечить себя. Кстати, это была бы безрассудная жертва: ведь через несколько недель рука срастется, и Пепичка снова пошлют в строй. Другое дело обмораживание; если за ним хорошо «ухаживать», его можно затянуть чуть не на год.
Я всячески отговаривал Пепичка. А он, торжествующе улыбнувшись, возразил таким тоном, словно только что разрешил долго мучившую его трудную головоломку.
Читать дальше