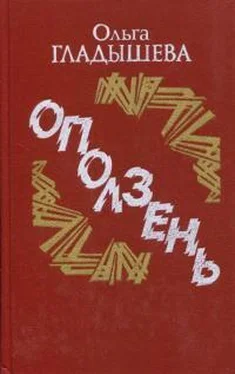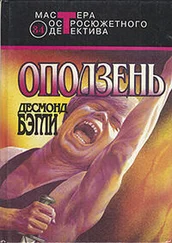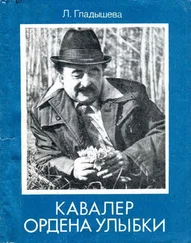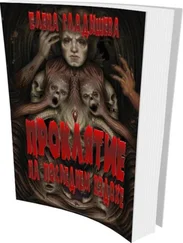Устя перед мужем благоговела, при всей своей глупости женским чутьем догадываясь о неизвестном избранничестве его. От огорчения нелюбовью его она сильно пухла и сделалась наконец женщина-гора. Конечно, немало тому способствовала и необходимость постоянно снимать пробу с товаров, поступающих в лавку. Василий на жену смотрел поверх и сквозь, при встречах тщательно обходя ее, как неодушевленный предмет. Даже если случалось отправиться куда-нибудь вместе, дистанция неодушевленности соблюдалась. Но ничто не могло разрушить Устину любовь. Сердце ее, раз и навсегда покоренное, оставалось неизменно во всех испытаниях, которым подвергал его Василий. Во дни краткого ее счастья, когда муж имел обыкновение еще собственнолично отлучаться за товарами к астраханским персам-оптовикам, он слал ей письма, хозяйственно обстоятельные, в меру заботливые и распорядительные. Читать их Устя не умела: по причине малой ее грамотности мужнины вольные росчерки были ей недоступны. Письма ей прочитывали соседи, родственники, иногда даже покупатели, давно знакомые и доверенные лица. Когда чтение письма заканчивалось, наступал высший момент ее торжества, то, для чего, по ее мнению, письмо только и писалось: «Целую тебя кирипко-накирипако в твои сладкие сахарные уста». Всякий раз она вспыхивала и закрывалась, расцветала и таяла. Из-за этих чувствительных страстных слов Василия, какие читали ей на разные голоса, она сделалась навечно преданной ему женщиной, безответно верной, обожающей самый скрип кровати, который он производил, ворочаясь с похмелья.
Никаких знаков любви своей она, конечно, выказывать мужу не смела. Желания его были законом, поведение — образцом, внешность — самого высшего класса, какой только можно вообразить. Даже страдая от перемен в его поведении и отношении, Устя не переставала быть счастлива.
Но томительный внутренний зов не покидал ее Василия, и однажды он исчез из дома и вообще из своего богатого волжского города в неизвестность.
Устя пождала неделю, потом объехала на извозчике сады, рестораны, бани и бильярдные, опросила прислугу и поняла, что она не только больше не увидит мужа, но и писем его никогда не получит. Тогда она смирилась и сосредоточила свою любовь на дочке, в которой готовились воплотиться и повториться все достоинства ее отца.
Как подброшенный в чужое гнездо кукушонок, повинуясь невесть откуда взявшемуся неодолимому побуждению, покидает гнездо и в одиночку летит в Африку, не зная родных и предков, но — их путем, так Василий подчинился дороге странствий, даже не спрашивая себя и не размышляя, куда она его приведет. В одном городе он пел в церковном хоре, в другом был маркером, в третьем служил даже актером на выходах, еще в одном — курьером типографии, пока наконец не вынырнул из этого водоворота в роли коридорного гостиницы «Русь» в городе широкого размаха Екатеринбурге.
Но чувство неисполненного еще предназначения сохранялось у Василия, и он гордился им. Он носил его в себе всегда: водил ли он паяльной лампой по щелям с тараканами, дежурил ли на стуле в коридоре, привычно прислушиваясь к звукам, доносящимся из номеров, обедал ли в зале для служащих на третьем этаже с отдельным выходом, он помнил о своей особливости, непохожести на других.
В зале, всегда мглистом от папиросного дыма и испарений, поднимающихся с тарелок, где немытые окна высоко под потолком слезились потеками от влажной духоты, у него было «свое» постоянное место и «своя» никогда не сменявшаяся, в пятнах салфетка. Неспешно разворачивая ее, Василий оглядывал обедающих с некоторым внутренним превосходством, усмехаясь тонкими губами, отвечал на поклоны знакомых, и, промокая рот кусочком хлеба после соуса, он никогда не переставал теперь ощущать значительность каждого момента своей жизни, которую он считал трагической, а себя самого неузнанным до поры участником великого и пошлого действа, каковым он считал жизнь остального человечества.
Он наблюдал это действо с изнанки гостиничной жизни, понимал до тонкостей ее видимость и ее тайности. В таком городе, как Екатеринбург, тайны могли быть только преступными: откуда тут взяться другим? Василий всех делил на преступников и их жертвы, себя прехладнокровно относя к преступникам, то есть натурам, имеющим силы в нужный момент оседлать эту подлую жизнь. Ну, а у кого сил таких не имеется, тот пускай покорится своей участи жертвы.
Молоденькая постоялица восьмого номера, с первого взгляда понял Василий, относилась к разряду жертв, но, по неопытности своей, никак смириться с этим не хотела и, третий день не кушамши, все размышляла о чем-то, на что-то решаясь.
Читать дальше