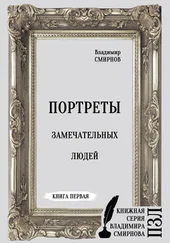Как бы пытаясь уговорить себя («все хорошо, все хорошо»), он все-таки – за тридцать лет до – предрекает крах империи, которой вряд ли служил, но с которой постоянно взаимодействовал. Возможно, без державного страха Межиров уже не мог представить своего творчества. И, возможно, именно этот страх давал ему ощущение того сопротивления материала, без которого настоящие стихи не пишутся (как его заикание, преодоленное в лучших стихах музыкой, рождало «фирменную» межировскую интонацию).
Но все-таки, наверное, другой страх должен преследовать поэта – страх Божий, страх перед неточным воплощением услышанной, да простится мне высокопарность, музыки сфер.
…И все же одна из самых больших потерь русской поэзии постперестроечного периода носит имя Александра Межирова. И потеря эта случилась не 22 мая 2009 года, когда закончился его земной путь, а значительно раньше – по крайней мере, в день его эмиграции в США. Не только потому, что эта эмиграция оказалась самой «глубокой» – в отличие, например, от Коржавина, Кенжеева или Цветкова он ни разу не приехал в Россию. Но прежде всего из-за того, что за последние полтора десятилетия многие читатели перестали воспринимать его как «действующего» поэта, а новое поколение любителей поэзии его просто не узнало.
…В Штатах он получил орден от Клинтона как ветеран Второй мировой. Жил в основном в Портленде, что на Северо-Западе у границы с Канадой, в комфортабельном доме для престарелых (приглашал туда приехать, говорил, что дадут отдельную уютную комнату для гостей). Хотя иногда жил и в Нью-Йорке с женой Лёлей, которой всю жизнь восхищался. Отрастил бороду – по телефону говорил: «О, вы сейчас меня не узнаете!» Играл в карты с соседями по приюту. Делал передачу на радио о русской поэзии. До последних дней писал стихи, которые изредка выходили в российских изданиях.
Единственная большая книга стихов Межирова, где опубликованы и его «американские» стихи, вышла в этот период на родине (М., Зебра Е, 2006) благодаря усилиям Евгения Евтушенко и им же составлена. Евтушенко, считавший себя учеником Александра Петровича, назвал ее по знаменитой межировской строчке: «Артиллерия бьет по своим».
Мы под Колпином скопом стоим,
Артиллерия бьет по своим.
Это наша разведка, наверно,
Ориентир указала неверно.
Недолет. Перелет. Недолет.
По своим артиллерия бьет.
‹…›
Мы под Колпином скопом лежим
И дрожим, прокопченные дымом.
Надо все-таки бить по чужим,
А она – по своим, по родимым.
Нас комбаты утешить хотят,
Говорят, что нас Родина любит.
По своим артиллерия лупит, –
Лес не рубят, а щепки летят.
(1956)
Конечно, это стихотворение ушедшего на фронт в восемнадцать лет Межирова отнюдь не только о войне. Он сам рассказывал, что написал его сразу после того, как вышел из знаменитого Дома на набережной, от знакомых: там по-прежнему с тревогой прислушивались к звуку лифта – не остановится ли на их этаже… слава богу, нет, недолет… перелет…
Наша «артиллерия» лупила по своим и до войны, и после. Когда вышло ждановское постановление по журналам «Звезда» и «Ленинград», Межиров продолжал повсюду читать стихи любимой Ахматовой, так же как и других опальных поэтов (он вообще служил поэзии, а не себе в ней), и, кроме того, обильно цитировать Библию, за что его чуть не выгнали из Союза писателей. Спасла вписанность в обойму поэтов-фронтовиков.
Кстати, Александр Петрович рассказывал, что его продолжали поминать в этой «активно работающей» обойме и тогда, когда он стихов вовсе не писал. А вот потом Межиров из всех «современных» обойм выпал – «За то, что… ни с этими не был, ни с теми». Как практически все крупные поэты, он был обречен на литературное одиночество.
Но у него были ученики, и он не жалел на них ни времени, ни душевных сил, заражая любовью к поэзии, – не только когда преподавал на Высших литературных курсах. Теперь ученики должны выполнить свой долг перед учителем: сделать так, чтобы удивительный поэтический голос Межирова «со своим незаемным дребезжаньем струны» услышали, простите за пафос, современники и потомки.
Как бы ни было жалко самого себя за потерянное счастье разговора с Александром Петровичем, жизнь настоящего поэта не заканчивается смертью – можно говорить с его стихами. А это как любовь, бесконечный разговор.
25 сентября 2009 года, на Переделкинском кладбище мы похоронили прах одного из крупнейших поэтов второй половины ХХ века Александра Петровича Межирова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Олег Хлебников Заметки на биополях [Книга о замечательных людях и выпавшем пространстве] [сборник litres] обложка книги](/books/387936/oleg-hlebnikov-zametki-na-biopolyah-kniga-o-zamecha-cover.webp)
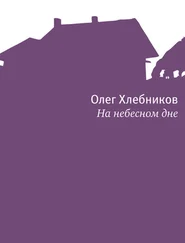

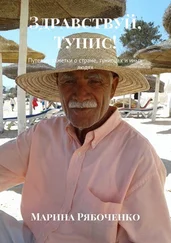
![Олег Дивов - Назад в космос [сборник litres]](/books/385490/oleg-divov-nazad-v-kosmos-sbornik-litres-thumb.webp)
![Олег Данильченко - Имперский вояж - Из варяг в небо. На мягких лапах между звезд. Чужая война. Тропинка к Млечному Пути [сборник litres]](/books/389801/oleg-danilchenko-imperskij-voyazh-iz-varyag-v-nebo-thumb.webp)
![Олег Батлук - Исповедь старого молодожена [сборник litres]](/books/390327/oleg-batluk-ispoved-starogo-molodozhena-sbornik-l-thumb.webp)
![Олег Кожин - Зверинец [сборник litres]](/books/390784/oleg-kozhin-zverinec-sbornik-litres-thumb.webp)
![Роман Волков - Большая книга ужасов – 83. Две недели до школы [сборник litres]](/books/435631/roman-volkov-bolshaya-kniga-uzhasov-83-dve-nedeli-thumb.webp)