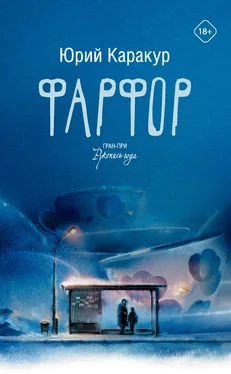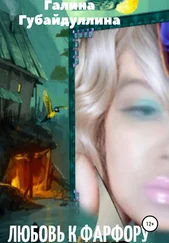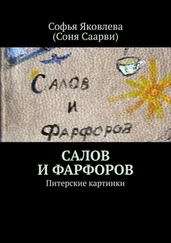– А сушить-то как будешь? – продолжает отец начатый до мотоцикла разговор.
– Повешу на балкон на перила, у Розы за ночь высох.
– На балкон на перила, – повторяет отец, снисходительно, голосом, подходящим для детских планов, – выдумали себе. Как его класть-то?
Отец берёт ковёр, а бабушка из-за того, что он несёт тяжёлое, суетится и протягивает руки к отцу, как будто готова подхватить.
– Да вот лицом вверх, но не очень низко, чтобы в воду не съехал, – и тут же оправдывается: – А то он висит пыльный, годами не выбивали, когда снимала, вся исчихалась.
– Исчихалась, – дразнит отец и встаёт на плиту, осторожно, сопротивляясь наклону.
Отец кидает сложенный ковёр, намеренно не церемонясь. Бабушка хочет вскрикнуть, но вовремя ловит слово осторожненько , потому что у отца из-за неудобной позы и так раздражённое лицо. Она морщась смотрит, как он небрежными пинками раскладывает ковёр. И в таком необычном месте, на плите, у воды, из-под ботинок появляется привычный наш домашний узор. Ковёр висит на стене, где бабушкина кровать, только утром до него доходит солнце, днём он в тени, вечером свет люстры почти не дотягивается, да и скучно рассматривать старый пыльный ковёр. А здесь всё – на солнце, ярко, вскрикнула от удивления чайка: между двух охраняющих рамок виляет плющ, внутри – бурая болотная вода, в которой плавают яркие, будто срезанные цветы, в центре – насилу отбившаяся от вязи, веток, отплывшая на свободное место сердцевина, похожая на большой цветок, словно кто-то прокрутил калейдоскоп и остановил на самом красивом. Старуха, я вижу, косится в сторону нашего ковра, а я рассматриваю тот, что она моет: небольшой, в два раза (комната с низким деревенским потолком) меньше нашего, зелёный геометрический узор, бежевый грязный фон, даже жалко старуху.
– Ладно, мойте. Я поехал, – говорит отец, достаёт из багажника и ставит на землю бабушкину сумку с едой и покрывалом. Он дёргает рычаг, мотор взрывается, и отец огибает запруду. Кажется странным, что он умеет управляться с чем-то таким громким.
– А как мы будем мыть? – спрашиваю я.
– Ты вот в ведро набирай воды и приноси мне. Я буду щёткой, а ты можешь вон губкой.
Я с опаской спускаюсь к самой воде, вижу вдруг своё отражение, водоросли и, потревожив лицо, всколыхнув ил, набираю ведро. Бабушка нагибается и начинает тереть щёткой. Я беру большую губку, которой раньше мылись, но теперь она всегда под раковиной, где подкапывает, и провожу ею по сопротивляющемуся ворсу.
– Ты вот так помыль хозяйственным мылом немножко, – советует бабушка, её перевёрнутое, как на прополке, лицо краснеет.
Я мылю губку, сильно пахнет знакомым чистым запахом, вспоминаются носки. Мы чистим ковёр: я – на корточках, бабушка – согнувшись. Мы оба молчим, кажется, стесняемся старухи, припекает солнце, у бабушки на носу появляется капля пота. Старуха спускается с железным ведром к воде и затаскивает его, натянув сухую руку, поскрипывая – страшно смотреть. Потом прицеливается и тщательно, захватывая ближние углы, поливает свой ковёр. А когда вода заканчивается, с удовольствием распрямляется, наслаждаясь чувством в пояснице. Солнце заходит за облако, и старуха не морщась смотрит на запруду. Я слежу за её взглядом – прилежные складки серой воды бегут на нас, тёмные, как будто озябшие дети торчат блестящими головами, резиновая лодка зачем-то кружится в центре, словно борется. А сама старуха без солнца совсем почернела, ямы глаз, худые щёки, морщинистый острый подбородок. За водой, на поле, где трактор стоит в профиль, жарко и ярко, и я вижу, как оттуда на нас по перепаханной земле надвигается солнце, темнота отступает по воде, и дети вдруг весёлые, лодка ярко-зелёная, развлекательная, а дальше невозможно, больно смотреть.
– Я иногда проснусь и лежу рассматриваю ковёр, делаю гимнастику для глаз, – говорит бабушка, – вот эта часть как раз у моей головы висит, и я беру видишь вот эту веточку и веду по ней глазами до самого верха, а потом обратно. И так три раза. Потому что сразу вставать, как проснулся, вредно. Надо немножко полежать. Так нам советуют врачи, – как будто шутит бабушка последней фразой.
На другой берег приезжает гордая машина красного цвета (марку я определять не умею, но как у Мишиного отца) и задиристо газует. Рука из водительского окна подхватывает ветерок, как бы показывая, что весь этот шум даётся легко. Машина движется вдоль запруды, отбраковывая разные места стоянки: тут близко дети, тут, у дороги, наверное, не хочется, а там, я помню, не спустишься нормально – только прыгать. Машина забирается на возвышение и, словно отказавшись от чего-то, затихает. Тут же прорывается музыка, звуки охотно бегут по воде к нам уйдём куда я не знаю куда я не знаю , но громкость убавляют. Мы доходим до середины ковра, цветок наполовину отмыт.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу