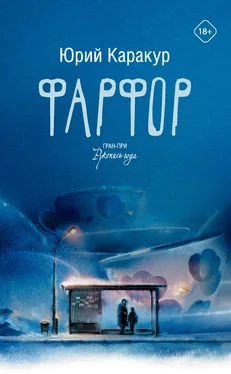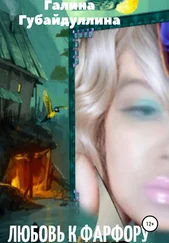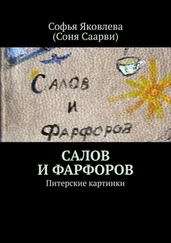Сколько бабушка ездила на троллейбусе, если уволилась с завода в восемьдесят восьмом году? Полчаса в одну сторону, час в день, двадцать часов в месяц, вычтем отпуск и праздники, двести двадцать часов в год, семь тысяч семьсот семьдесят часов за тридцать пять лет, добавим поездки на рынок, к знакомой, и получится, что бабушка за всю жизнь ехала на троллейбусе полтора года. А сколько минут за всю жизнь бабушку обнимали, сколько минут она целовалась, сколько секунд она гладила вены на его руке, распутывая пальцем путь от глубоководного места укола до суетливого обмелевшего запястья? Выходит ну какая-то минутка за всю жизнь, у многих из нас выходит так мало, и когда мы, возвращаясь на автобусе с рынка, свернули в знакомую нам часть Стамбула и разглядели уже наш (ирония местоимения) мост, мне ярко, будто осветили фонарём, вспомнилось, как много лет назад я стоял около кинотеатра «Художественный» во Владимире, было тяжело и обидно, что-то отменилось, перенеслось, присоединилась компания друзей, и я дотронулся до пальца человека, которого я любил, как будто так легче было объяснить. Пойми, пытался сказать я, я люблю тебя, и я в отчаянии (да, такое слово), что твои друзья приедут к нам в библиотеку, а потом пойдут с нами в городской парк, ведь я же думал, что мы будем только вдвоём, и я готов возненавидеть, пытался сказать я, всякого друга, даже самого близкого, я же так люблю тебя. Прикосновение длилось секунд, наверное, семнадцать, но тот минимум нежности (не больше пальца) помнится мне до сих пор: серебряное кольцо с забытым орнаментом, сухая после зимы кожа, узелок сустава, вынырнувшая венка – знак большой, важной системы любимого кровообращения. И мне захотелось добавить бабушке ещё минутку (а кровообращение закончилось, настаивало что-то внутри), восполнить дефицит, и я подумал: может быть, в том санатории, куда бабушка ездила в семьдесят пятом году (осталась фотография), она могла бы встретить кого-то и влюбиться. Кровообращение закончилось, громко говорило что-то внутри, и мне пришлось дальше прислушиваться к тем семнадцати секундам и услышать их непременное эхо: умер. Хоть я не забывал этого никогда, но всё равно удивился: как же так? Он (в прошедшем времени всё становится однозначным) давно умер, но тогда (пересказывая более честно) он не отнял руки, пусть середина выходного дня, центр города, кинотеатр, люди вокруг, он любит Лену, Лена любит его, но он не отнял руки. Потом действительно приехали друзья, дурные, шумные, приехала красивая Лена, играли в карты, спрягали матерные глаголы, хохотали. Расходились в разное время, я – позже всех, уступив только Лене, которая победоносно предложила проводить меня до остановки, и мы втроём пошли, и я, пока ждал автобуса, рассматривал подсвеченный собор на другой стороне реки, лишь бы не смотреть на них, обнимающихся, испытывающих молодое возбуждение. Сначала я разлюбил его, потом полюбил кого-то ещё, потом переехал в Москву, и вот когда я выбирал в супермаркете торт, за который почему-то стыдно, пришло сообщение, и он умер. Я легко, почти не поплакав, перенёс его смерть, даже не отказался от ужина в тот день, на похороны не поехал, не запомнил времени года. Однажды в электричке я встретил Лену, мы говорили осторожно, не дотрагиваясь до смерти, как по канату ходили. У неё были дети и муж, она полюбила походы, палатки, спускается на байдарках, а я купил квартиру и выбирал деревянный пол. Выходило, мы прекрасно обошлись без него, и даже, как оказалось, всё к лучшему. Но соглашаться с этим безысходным стихотворением тогда, в Стамбуле, не хотелось. Поэтому я стал перебирать все мелочи, которые приходили на ум: профиль, волосы, тянется рука, смазанное выражение лица, смех, забывший причину, выцветший билет на электричку, почти отпустивший буквы (но по памяти так: Владимир = Камешково, осенний день, термос, лес, синие джинсы), пустяковая записка («Прости, мой друг, я не дождался…»), сомнительная фотография, с которой хочется спорить (тут он совсем на себя не похож!). Я шёл от автобуса к дому, отстав, засмотревшись на фонарные куски Стамбула, и думал, что нужно как можно дольше любить, ведь любовный взгляд, тщательный, медленный, сантиметр за сантиметром рассматривает, запоминает даже глупости вроде поясницы и (раздвинув волосы) ушной раковины, спасает от повреждений. Никто под моим присмотром не посмеет отколоть пальцы на ступнях, отбить голову, выхватить диск из руки, выломать плечо. Я запомню тебя и спасу тебя, пообещал я кому-то. В семьдесят пятом году у бабушки начинает расти косточка на ноге, к венам начинают присматриваться врачи, времени остаётся мало, и я поспешно отправляю бабушку в санаторий, ещё це́лую, без повреждений, молодую пятидесятилетнюю женщину, чтобы весной семьдесят пятого года, в санатории, за три недели, бабушка снова влюбилась, хорошо?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу