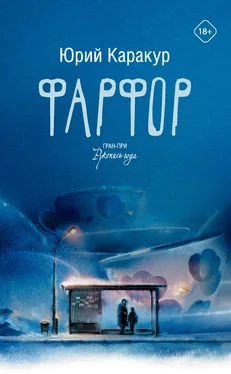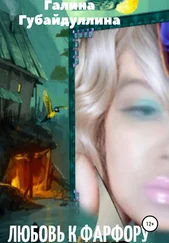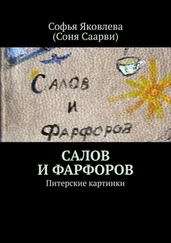Уезжать из района не хотелось, и я решил сходить к бабушке в сад. Я перешёл Октябрьский проспект, свернул на дорожку вдоль заводской стены. Стена закончилась, показалась однополосная железная дорога. Двухэтажные деревянные дома расселили, и они стояли раскрытые, без стёкол, вспомнилось, что в окне одного из них год за годом сидела большая чёрная собака. Ворота в сады были открыты. Никто не попался мне навстречу, только кое-где за заборами поливали. С дорожки была видна речка, поле, переходящее в кусты, ступени леса на горизонте, синее небо позволило себе широкую жёлтую вечернюю полосу. Говнотечка, прибавил я. У чьей-то калитки я вспомнил цветы золотых шаров, ради смеха и благодаря Олиному экзамену по ботанике называемые «рудбекия». Сначала появился домик бабушкиной соседки, и тут же выскочило имя – Люба, Любаша, это если переговариваться с ней через забор: Любаша, идёт ли вода у тебя? Наконец я дошёл до бабушкиного сада. Его тогда скоропостижно продали, вместе с высаженной в парник рассадой. Более яркой метафоры бабушкиной смерти невозможно было представить: новый хозяин спилил яблони, вырвал, как будто по завету деда Якова, цветы и засадил всё картошкой, в домике заколотил окна – кажется, просто из вредности. Сад стоял облысевший, ослепший, наполненный тщательно окученной дурой-картошкой, мне было неловко смотреть на него, как неловко остановиться над мёртвой птицей на тротуаре. Я прошёл дальше вдоль забора и увидел бабушкины вишни. Они выжили, вероятно, потому, что загораживали участок от прохожих – низкие, северные, с кислыми, мелкими, но яркими ягодами. Я погладил вишню так, как, казалось мне, бабушка могла бы, сорвал ягоду и не удержался от мысли, пусть и слишком сентиментальной, что это последнее бабушкино угощение, вспомнилось, что Оля в память о них о всех стала врачом, внутри загорчило, подступили слёзы. Я положил ягоду в рот и стал подниматься, не оборачиваясь. Косточку я не выплюнул, а спрятал в карман, чтобы потом, дома, убрать в шкатулку. На середине холма я, подхватывая дыхание, остановился, посмотрел вдаль, за сады, жираф.
– Ротик у этой Риммы как куриная жопа, а всё равно губы накрасила, – говорит бабушка. Я смеюсь и переспрашиваю несколько раз: какой ротик? почему куриная? Ну сморщенный, как у курицы жопа. И показывает: вот такой. Покажи ещё раз!
Бабушка знала, что я смеюсь над жопой , и поэтому под настроение её употребляла, сама над ней смеялась, а отсмеявшись, говорила, чтобы я маме не рассказывал.
– Жанна юбку какую короткую натянула, – прицеливалась бабушка. И стреляла: – Сейчас голубь в жопу залетит.
– У Вериного подъезда лавку сломали. Наверное, Вера своей жопой и проломила.
Жопа у Веры огромная, как арбуз, а у соседки Лены маленькая, сухонькая жопка, за всю жизнь так и не отрастила Лена – ни жопы, ни мужа, зато свёклы посмотри сколько тащит с огорода. Мы хохотали.
– Вот Тамара всякий раз как встанет с лавки, так и стоит по полчаса – халат в жопе (смеётся), рецепты пересказывает, как она огурчики малосолит. Так и хочется сказать ей: Тамара, ну высунь ты халат из жопы (хохочет), ты не кормишь, что ли, жопу свою (едва понятно) огурчиками (до слёз). Только маме уж не говори.
Маме я не говорил.
Но бабушка смеяться, в общем-то, боялась. Особенно в первой половине дня. Утром насмеёшься, вечером наплачешься, говорила она. Бабушка чувствовала, что в этом заключается закон жизни: смех обернётся слезами, счастье переломится, колено перестанет сгибаться. Бабушка часто вспоминала, как она девочкой шла в белом платьице по берегу Азовского моря, и на руке у неё были часики, которые подруга дала ей даже не поносить, а попробовать, на десять минут: когда стрелочка будет вот тут, отдашь. Как только застегнули ремешок, бабушкина рука сразу стала кокетничать, туда-сюда, часики замигали на солнце. И из-за этих часиков бабушке, как бывает с детьми, захотелось быть совсем другой – взрослой, интересной, загадочной. И почему-то ей пришло в голову хромать. То ли она прочла в книге, то ли видела в кино, но лёгкая хромота (одна нога будто не гнётся) казалась ей красивой: тоненькая девушка в белом платьице идёт вдоль моря с часиками на руке и хромает, стрелочка раз, раз, ножка раз, раз, один след на песке глубже другого. И девушка смотрит в море, как будто вспоминает что-то, и всякому, кто видит её сейчас на берегу (хоть никто и не смотрел), понятно, что эта красивая белой красотой девушка уже успела обо что-то споткнуться в жизни. Ну ещё и длинные кудрявые волосы, ну ветер, ну треплет, как не трепать на берегу моря, о войне ещё никто не знает, тридцать шестой год, ах. И бабушке было весело и интересно притворяться хромой все восемь оставшихся минут, и потом ещё пять минут выпросила. Стрелочка, если приложить к уху, щекотно тикала. И вот, иронизировала бабушка, теперь еле таскаю ногу. Море осталось в рыбацкой деревне, кудри распрямились, волосы побелели, артритное колено перечёркнуто йодом, за жизнь было трое наручных часов, но больше всех бабушка скучает по таким овальненьким, с римскими чёрными циферками, «Чайка» (оставила в поезде). Вот теперь всё бы сделала, чтобы нога не болела, подводила бабушка итог.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу