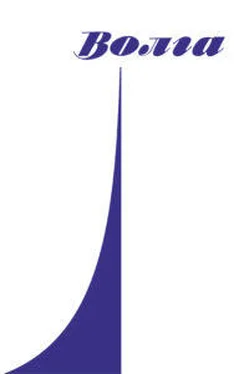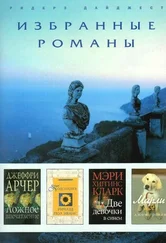— Ты всегда занимаешься своим делом… всегда у тебя какие-то тайны, недомолвки. А я боюсь за тебя!
— Напрасно, Ката. Ничего страшного. Я просто писал.
— Писать-то тоже можно разное. Ты же не роман для девочек, небось, сочинял?
Он не ответил и закурил. Я даже не различала теперь его лица — только черный силуэт на светлом, и дымная струйка, ускользающая между пальцев. И что у него за табак, — просто дышать невозможно!
Нет, это был не табак. Фитили свечей тлели в кадильном дыму вокруг Уны. Снаружи в окна барабанил дождь. Покойник к дождю снятся… О нет. Нет. Только не это, пожалуйста, нет. Мучительное ощущение: и сон — не сон, да и явь уж такая — хоть вой… Я спустила ноги с дивана. Что же это за разговоры во сне, к чему? И Симон совсем как раньше — спокойный, деловитый, излучающий уверенность… Что это? Пустой обман или, всему вопреки, какая-то надежда?
— Сны не содержат ничего, — вдруг подала голос Уна. — Они не ведут, не предостерегают и не могут служить опорой духу.
Я вздрогнула. А хозяйка продолжала:
— Садитесь. Нет, на пол. Ноги под себя. Да. Руки положите на колени.
— Это неудобно.
— Ничего. Пот е рпите. Ничего не делайте, освободите разум. Не старайтесь понять. Просто слушайте. Отпустите себя.
И она запела, забормотала, как хиппи из Виньи — что-то на непонятном языке, нараспев.
Все это подкатило под горло как сладкий дым. Эзотерикой я никогда не увлекалась… Зачем я тогда подчиняюсь? Почему я всегда подчиняюсь? Почему всегда чужая воля? С тех пор, как те проклятые танки вошли в Прагу — воля моя, похоже, дала трещину, и я сначала убежала сюда, а теперь — куда? Снова не мне решать? Не мне решать, куда идти, и не мне решать, что делать, и еще было одно, что совсем лишало сил. Симон остался в аду. Конечно, у него там было дело, и явно это не роман для девочек… И мне было страшно думать о том, что это могло быть, — то, ради чего он нарушил тщательно составленные вокруг него планы, может быть, даже приказы… ведь здесь его ждали, и о том, какой ценой это обернется — то, что он зачем-то решил поберечь меня, мою бессмысленную жизнь… И я не знала в этот момент, чего в мне больше — любви, былой и привычной, и благодарности — или горькой злости и отчаяния.
Что за жизнь ты мне подарил, Симон? Без «попугаячьего насеста», без пытки электричеством и водой, без изнасилований раз за разом, без…
Без чего — я знала.
Но с чем?
И как мне теперь платить?
И кому?
Мантра зудела, жужжала, гудела… Никакого облегчения. Только обида. Только злость. Только отвращение к себе… Покой! Где мой покой?! Где я сама?! И тут за ровным плеском воды я слышала другой звук. Он повторялся, трескучий, раздраженный, и вот тормоза заскрежетали у самого дома.
Уна медленно повернулась к двери, но лицо ее ничего особенного не выражало. Шаги прогрохотали на крыльце, в прихожей, петли взвизгнули… вошел Мосс. То есть он остался в дверях. Ливень промочил его, я различала каждую каплю воды на пятнистом комбинезоне.
— Да, Моисей? — телефонным голосом спросила Уна.
В это мгновение вполне мог бы ударить гром, но вода только монотонно шумела.
— Катерина где там? — хрипло произнес солдат и утерся. — Пусть собирается, надо дальше двигаться.
И посмотрел при этом на меня. Я расправила затекшие ноги, но не вставала.
— Дальше? — я подала голос. Мосс буркнул:
— Ну, не обратно же…
Тут Уна вмешалась:
— Ты видел Симона?
Мосс не отвечал.
Мне не пришло в голову сказать: «До свидания». Уна только чуть подвинулась, освобождая проход. Снаружи в лицо ударила вода. Прощай, благая и странная Уна… прощай!
Тент в джипе протекал, капало мне как раз на колени. Мосс плюхнулся на сиденье, с хрустом повернул ключ.
— Куда теперь, Мосс?
Мосс прилип к педалям, вцепился в рычаги и баранку, — не до разговоров ему было. Чокнутый: в такую погоду, ночью…
— Где ты был? Ты видел Симона?
Джип трясло, дорога почти не просматривалась — но мне показалось, что мы едем выше, в горы, и мне опять стало страшно.
— Мосс?
— Да угомонишься ты, женщина? — прорычал он. — И так не видно тут ни хрена, и ты еще нудишь! Забудь ты о Симоне, все, как будто не было его…
Я думала, что меня уже нельзя больше напугать, но эта холодная решимость — не злость, не гнев, не раздражение — а именно что холодная решимость, как будто Симона действительно никогда не было — она меня просто оглушила.
— Куда мы едем? Да что ты молчишь!
— В Аргентину, — проронил Мосс, и я поняла, что больше спрашивать не о чем.
Читать дальше