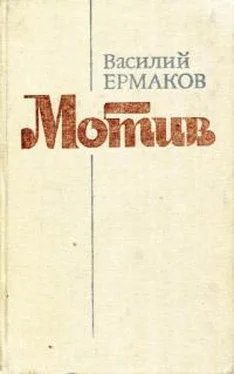Кусов не очень хорошо помнил свое пребывание в милиции. В пути старушки-гимназистки очень беспокоились, чтобы не стеснить его. В кабинете следователя Кусов подробно отвечал на все вопросы, но посматривали на него почему-то странновато. Нестерпимо хотелось домой, придвинуть к столу стул, сдвинуть на край посуду, зажать между пальцами карандаш… Будь что будет. И исключительно для самого себя. Очистить душу, восстановить в ней пошатнувшееся равновесие, утолить сострадание…
…Но сегодня ему работалось так, как работалось нечасто. Как тогда, когда он писал очерк о весенних учениях, об атаке своего дивизиона. Время от времени он вставал, подходил к окну и смотрел вниз. Сквер, живший в воображении Кусова напряженно и загадочно, выглядел скучно и бесцветно. Но кто знает, каких вещей насмотрелся он на своем веку. Назначают же именно в этом сквере свои ежедневные свидания старушки-гимназистки. Воспоминания о каких событиях бесследно канут для них, приди кому в голову убрать этот сквер?..
— Ну, погоди же! — неизвестно кому грозил Кусов и торопливо возвращался к столу.
Дворничихи, очистив крышу от снега, спустились вниз. Опять зазвучал смех и голос робкой Настехи…
1978 г.
Так хорошо было проснуться в родительском доме: ни грохота тягачей и грузовиков за тонкими железобетонными стенами офицерского дома в военном городке, ни на полную мощность включенного радиоприемника, ни бесцеремонного откашливания мужа, ни раздражающего шарканья его шлепанцев. Тишина глубокая, плотная, не в день и не в два устоявшаяся, с непривычки слегка тревожила, вызывала ощущение заброшенности, ненужности. Собственно, от этого ощущения Ирина Петровна и проснулась. Квартирные звуки — капли из слабо зажатого водопроводного крана, вкрадчивое потрескивание спиралей в электрических лампочках, бормотание охлаждающегося пара в батареях отопления — лишь усиливали это ощущение.
Да, хорошо проснуться в родительском доме. Даже и после того, как у тебя был уже свой собственный дом. А теперь его нет. Жизнь как бы отбросила тебя на двадцать лет назад, на исходные рубежи, опять поставив перед тобой тот же неумолимый вопрос: ну, а что же дальше? — а у тебя нет уже ни неотразимого обаяния, ни ликующего здоровья, ни быстрого, как бы самого себя обгоняющего тела, ни — главное — той непоколебимой уверенности, что все пойдет так, как захочешь — стоит только решить. Годы перевалили за сорок. Не так давно, но перевалили, и ты не молоденькая девчонка, а обманутая жена.
Заброшенность и ненужность. И опустошенность, будто все из души выгребли. И простенькое заманчивое желание жить как будет житься: устроиться на спокойную работу, смотреть новые фильмы, коротать вечера перед телевизором, ходить в гости к подругам (желательно, к таким же одиноким) и принимать их у себя, стареть и незаметно вообще сойти на нет.
А почему бы и не так? По-разному ведь живут люди, кто как зарабатывает и съедает свой хлеб. Жизнь одних от начала и до конца наполнена событиями — большими и малыми — успевай только поворачиваться. У других же она бедна ими, течет вяло и ровно, и если это течение неожиданно прерывается, то, оглянувшись, и вспомнить нечего.
Ну что, в самом деле, есть вспомнить офицерской средней жене? (Средней потому, что майорской.) Ее муж, теперь уже бывший, так сумел поставить себя, что ей даже не довелось, в отличие от своих подруг, таких же, как и она, офицерских жен, поколесить по стране, повидать Север и Юг, Восток и Запад. На праздничных застольях ей не приходилось кричать кому-нибудь:
— А помните, как однажды в Туркмении?.. — или: — А вот когда мы служили на Сахалине!..
Для нее все те двадцать лет были почти одинаковы, и только последний, когда она узнала, что муж изменяет ей, резко выделился из обычной череды — недоумением, обидой, горьким, саднящим душу вопросом: за что?.. Отчаянными попытками убедить себя, что все это чепуха, что ничего такого не было и быть не могло и что соседка по лестничной площадке капитанша Анна Васильевна нарочно сталкивает ее, Ирину Петровну, с мужем, сообщая ей, что заведующая гарнизонным продмагом Вера Ходункова в открытую хвастается, что майор Неплохов вот-вот бросит свой «гербарий» — так Вера прозвала якобы худеньких Ирину Петровну и ее дочь Катю — и переедет со всей обстановкой к ней.
Кошмарный был год. С ночными бесконечными разговорами, когда она, приглушив все, что творилось в душе, умоляла мужа сказать всю правду, какая бы горькая она ни была, а он только усмехался и с любопытством, как на чужую, смотрел на нее, отчего она догадывалась о правоте Анны Васильевны, но не желала сознаться в этом. С неистовыми взрывами исступленной любви к нему и тяжелой, изнуряющей ненависти. С округленными страдающими глазами дочери и, наконец, с откровенным, как обухом по голове, признанием мужа. С самоуговорами смириться, оставить все так, как есть: не я, мол, первая, не я и последняя, все мужчины такие, если не ради себя, то ради дочери. С мучительно, но неукротимо вызревающим равнодушием к мужу, к тому, что уже прошло, и к тому, чему предстояло еще быть. Ничего становилось не жаль. Жалко было только, что канула молодость. Пообещала что-то, чем-то поманила и исчезла. Отстала незаметно где-то, а где — и не вспомнить. Хотелось, правда, как-то перечеркнуть те двадцать лет — теперь уже постылые. Но сорок лет — это сорок лет…
Читать дальше