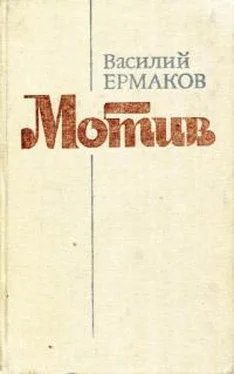Какие только парни не увивались вокруг нее: и простодушные весельчаки, и ранние пессимисты, и загадочные, скептически настроенные молодые дарования… — как они распускали перед нею свое оперение. И как оскорблялись, когда вдруг, из каприза, она давала им поворот от ворот. Впрочем, не из каприза, нет. Она всегда безошибочно чуяла, который из них должен был вот-вот исчезнуть, разочарованный ее небрежением к нему, исчезнуть, чтобы в других компаниях устраивать свое счастье или несчастье. Постоянным оставался один Эмиль. Но он стал таким привычным, что трудно было вообразить, будто с ним можно сделаться счастливой раз и навсегда.
Позже других появился он, Неплохов, молоденький лейтенантик с круглыми, как у совки, цепкими глазами. Он то и дело передергивал плечами, словно ему было тесно в кителе, и проверял, все ли пуговицы застегнуты. Не вспомнить даже как, при каких обстоятельствах он появился. Появился, и все тут. Но она сразу почувствовала: у этого — хватка.
И хоть она, Ира, храбрилась перед собой, уверяя, что стоит ей мизинчиком шевельнуть — и этой совки не будет, но в глубине души уже знала, что у нее не достанет на это ни сил, ни воли, а главное, и ни желания вырваться из этой хватки. С ним спокойно было. Можно было не думать о том, что будет завтра, передоверить эти заботы ему.
С ним можно было не играть, а не играть она не могла. Нужно было хоть как-то умаслить свое протестующее самолюбие. И она принялась изматывать терпение лейтенантика. Зная, что он прижимист, ей ничего не стоило пожелать вдруг пойти в ресторан и встать из-за стола сразу же после того, как было подано первое блюдо.
А стычки с милиционерами?.. Ей нравилось, отойдя в сторону, с каким-то мстительным и холодным удовлетворением наблюдать, как Неплохов, бледнея и заикаясь, объясняется с милиционером, как, обливаясь густым румянцем и хмурясь, пихает руку в карман за кошельком заплатить очередной штраф.
Он умел уладить конфликты, умел угодить, замять и загладить.
Попутно с ухаживанием за ней он уверенно и обстоятельно устраивал свои дела: накрепко зацепился за Ленинград, отреставрировав разбитую в аварии машину начальника гарнизона, копил деньги на свою машину, встал в очередь на кооперативную квартиру…
Словом, старался. И у него получалось. За год он, наверное, умел вернуть к жизни больше покалеченных частных автомобилей, чем любое государственное автопредприятие, оснащенное всей необходимой ремонтной техникой и запчастями. И, признаться, старался не для себя только. Чего хорошего вышло бы из того, если бы он привел свою молодую жену не в уютную, хорошо обставленную квартиру, а в коммунальную, битком набитую людским гомоном и кухонными запахами трущобу?.. И так ли уж ей хотелось терять лучшие годы в песках Туркмении или на гнилых берегах далекого Сахалина?..
Ирина Петровна удивилась и испугалась тому неожиданному направлению, которое приняли ее раздумья. Впервые за прошедший год она подумала о муже без злости, без желания видеть в нем только плохое. Неужели эти влажные аллеи, это скромное деревце о гладким черным стволом размягчили ее душу?.. Нет, нет, Неплохов — подлец. Он надсмеялся над самыми святыми ее чувствами, а то, что он предложил ей остаться навсегда хозяйкой их квартиры и совместно нажитого добра, — так это показное великодушие, верный расчет, что она откажется. И она ведь отказалась: какой смысл жить одной, без мужа, в военном городке, слушать сплетни капитанши Анны Васильевны и других офицерских жен, ежедневно видеть торжествующую Веру Ходункову…
Ирина Петровна испугалась еще больше — впервые за минувший год заведующая гарнизонным продмагом представилась в ее воображении не разбитной вульгарной бабенкой, а спокойной и доброжелательной, миловидной молодой женщиной.
«Да что это со мной? — возмутилась Ирина Петровна. — Что за самоуничижение? Что творится со мной?»
Но что-то уже нахлынуло, не удержать было. Хотелось уличать не мужа, а себя, и испытывать от этого странное, но острое удовлетворение. «Ах, округлые страдающие глаза дочери?! Ложь! Красивые слова, чтобы как-нибудь облагородить свою беду. Дочь любила отца, уважала. И жалела, должно быть, что мать не слишком-то щедра была на ласку к нему. Ах, Катька, Катька, много ты понимаешь!..»
Ирина Петровна быстро пошла в глубь аллеи, свернула в другую, обошла вокруг пруда, на дне которого лежали коричневые пласты прошлогодних листьев. Надо уходить отсюда. Уносить ноги. Воздух этого парка обезволивает. Нельзя так вдруг, по какому-то нелепому наитию, признать, что не все с этим разводом так просто, так очевидно.
Читать дальше